Одиссея последнего романтика - [118]
А между тем не только рабы, не только генералы, но и самые взяточники были люди, и 1000 теплых или отрадных подробностей их жизни пропадают для истории. Каковы бы они ни были, они были русские, а нам нужно знать Россию не по одним официальным и обличительным крайностям. Нам нужно знать, какие народные начала хорошо бы выработать, нам надо даже знать, какое зло терпеть необходимо, чтобы быть самим собой, а не отсталыми и робкими лакеями европейских успехов; чтобы отчизна наша все больше день ото дня занимала в мире то духовное положение, к которому она пышностью своих составных частей призвана, помимо всякой политической силы, давно уже доступной ей.
Я не говорю уже о крестьянах, о купцах, раскольниках, казаках, обо всем том, что носит на себе, слава богу, еще долго неизгладимую русскую печать; я говорю о нашем помещичьем и чиновничьем обществе, которое хотя и менее народно, чем народ, но вполне все-таки и ни на одно иностранное общество не было похоже и непохоже и теперь.
Положим, наше общество 30-х, 40-х и 50-х годов было заражено космополитизмом до низости; положим, наши дамы говорили иногда: «как я могу интересоваться героем, которого зовут Петр Иваныч?», положим, наши лихие офицеры, которые как следует бились под Севастополем, слишком ласкались к европейцам при мирных свиданиях с ними. Но разве этот неслыханный космополитизм не наша черта? разве не вызван он был особыми историческими условиями, не похожими ни на французские, ни на греческие, ни на турецкие, ни на германские условия? Дело не в том, чтобы хвалить его, но чтобы изучить и понять, почему люди самые сильные, умы самые самостоятельные были так робки в том случае. Почему до сих пор еще этот космополитизм делает у нас успехи? Разве это не любопытно и не поучительно? Положим еще, что, кроме неуместного космополитизма, есть еще другая общая черта у русского общества, — это какая-то неопределенность, расплывчатость, недоконченность многих отдельных явлений. Какое-то соединение сложности и бледности. Трудно сказать про наше общество то, что легко, без ошибки, сказать о других обществах: «семейное начало правильно и сильно в Германии и Англии; в Италии свобода супружеских нравов доведена донельзя» и т. д. Можно ли сказать так резко о нашем обществе? Конечно, нет! С одной стороны, семейная жизнь, домоседство, власть старших, доходящая до деспотизма, с другой — бродяжничество, цыганство со всеми его дурными и хорошими последствиями, неслыханная, свирепая эмансипация детей. Молодые люди, «дети» нашего времени, вырастают под самыми противоположными влияниями; сын набожного купца становится нигилистом; вчерашний космополит и атеист начинает ходить в церковь чаще, чем ходила его мать, помещица. Один брат сочувствует полякам, другой — Муравьеву; государство одевает войска в кепи, а молодые люди заказывают себе поддевки и красные рубашки; демагог, почитавши статьи Антоновича, поступает на службу и знакомится с людьми высшего круга; богатый и знатный гордец понижает тон. Электричество гражданских учений пробегает по обществу и целой нации, которую реформы и фактическая свобода слова застали в сложном и бледном виде, завещанном нам 40-ми годами. Краски начинают выступать нескольку ярче, но все еще недостаточно. Их надо сознать и оценить во всей полноте. А много ли мы знаем про себя? И если знаем кое-что, то давно ли? Где у нас мемуары? Летописцы недавнего и уже забываемого прошедшего? Где биографии знаменитых людей? Сколько оригинальных русских характеров угасло в неизвестности. Многие ли у нас знают Кавказ, казаков, русское крестьянство, жизнь мусульманских племен нашей отчизны? Кто знает Финляндию, Сибирь? Давно ли открыли, что есть на свете Белоруссия? Где у нас ясные сведения о придворной жизни прошлого и запрошлого царствования, — и это было бы полезно изучить без светской исключительности и без скрежета плебейской зависти. Самые подробности о великой борьбе 12-го года исчезают на всех концах России, вместе со стариками и старухами, которые и не подозревают, какие сокровища уносят с собою в могилу. Ввиду подобного невежества нельзя не дорожить всяким биографическим отрывком, всяким плохим подобием записок и воспоминаний.
Нашим писателям вообще свойственна добросовестная объективность, любовь к мелочам, крайне неуместная в области искусства; для биографий же и воспоминаний она более чем полезна. Панаева обвиняли за его пристрастие к описанию поз, ногтей, рубашек и т. п.; я с этим не согласен; за неимением лучшего и его «Воспоминания» пригодны. И эта деревянная объективность в них менее возмутительна, чем в «Хлыщах» и т. п. искусственных, ложнотворческих мерзостях, где нет ни реальной, ни художественной правды.
Такие грубые, неумные, жалкие писатели повестей, как Успенский, Станицкий и др., которым имя «легион», были бы очень почтенны, если бы обратили свою поверхностную наблюдательность на службу современной истории, — вместо того чтобы осквернять мир своим творчеством. Разумеется, для них (особенно для Станицкого) это уже поздно, и угол зрения у многих из подобных творцов более современно-дидактический, чем научно-верный; но под словами «Станицкий, Успенский» и т. п. я разумею нечто генерическое, ужасное в искусстве, но достаточно способное для летописи. Такие умы всегда будут, и, лишь бы дидактизм и разные полезные негодования не сбивали их с пути, они могли бы изготовлять материалы для биографий, для истории общества и народа, предоставляя умам более обширным делать выводы и давать направления.
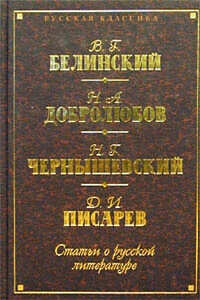
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Опера Дж. Мейербера «Роберт-дьявол» имела большой успех у русских романтиков: ей увлекались молодые В.П.Боткин и В.Г.Белинский, неоднократно упоминал о ней в своих статьях и А.Григорьев. Данная статья – рецензия на спектакль приехавшей в Москву петербургской немецкой оперной труппы.
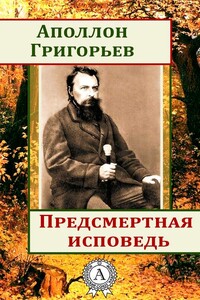
«Предсмертная исповедь» − поэма талантливого русского поэта, переводчика и литературного критика Аполлона Александровича Григорьева (1822 − 1864).*** В этом произведении описаны последние часы жизни одинокого и гордого человека. Рядом с ним находится его единственный друг, с которым он перед смертью делится своими переживаниями и воспоминаниями. Другими известными произведениями Аполлона Григорьева являются «Вверх по Волге», «Роберт-дьявол», «"Гамлет" на одном провинциальном театре», «Другой из многих», «Великий трагик», «Листки из рукописи скитающегося софиста», «Стихотворения», «Поэмы», «Проза».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
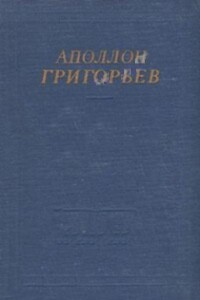
В сборник включены лучшие лирические произведения А.Григорьева (среди них такие перлы русской поэзии, как «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная» и «Цыганская венгерка») и его поэмы. В книгу также вошли переводы из Гейне, Байрона, Гете, Шиллера, Беранже.http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Рассказ приоткрывает «окно» в напряженную психологическую жизнь писателя. Эмоциональная неуравновешенность, умственные потрясения, грань близкого безумия, душевная болезнь — постоянные его темы («Возвращение Будды», «Пробуждение», фрагменты в «Вечере у Клэр» и др.). Этот небольшой рассказ — своего рода портрет художника, переходящего границу между «просто человеком» и поэтом; загадочный женский образ, возникающий в воображении героя, — это Муза или символ притягательной силы искусства, творчества. Впервые — Современные записки.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.