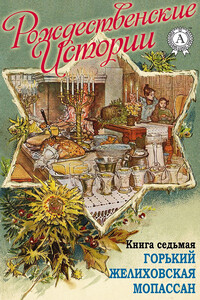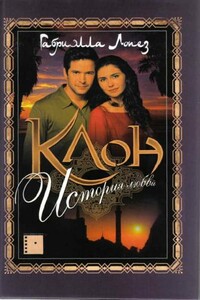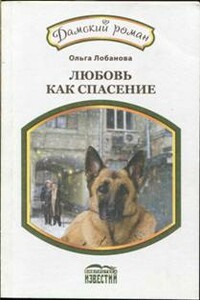М.Горький
Петербургские типы
В эту весну, с первых же её тёплых дней, на улицы Петербурга выползли люди фантастические, люди жуткие. Где и чем жили они до сей поры? Воображаешь, что в какой-то трущобе разрушен огромный, уединённый дом, там все эти люди прятались от жизни, оскорблённые и отверженные ею. Навязчиво думается: они что-то забыли и вспоминают, тихо ползая по городу.
Они оборваны, грязны, видимо очень голодны, но - не похожи на нищих и не просят милостыни. Молчаливые, они ходят осторожно, смотрят на обыкновенных горожан с недоверчивым любопытством. Останавливаясь пред витринами магазинов, они рассматривают вещи глазами людей, которые хотят догадаться или вспомнить: зачем это нужно? Автомобили пугают их, как пугали деревенских баб и мужиков двадцать лет тому назад.
Высокий, темнолицый старик с провалившимися глазами, кривым носом и зеленоватой бородою, вежливо приподняв измятую шляпу, с дырой на тулье, спрашивает прохожего, указывая длинной рукой вслед автомобилю:
- Электричество? Ага... Благодарю.
Ходит он выпятив грудь, гордо подняв голову, никому не уступая дороги; смотрит на встречных отталкивающим взглядом прищуренных глаз. Он - босой и, касаясь ступнями камня панелей, подгибает пальцы, словно пробуя прочность камня.
Празднично настроенный, бойкий юноша спросил его:
- Вы - кто?
- Вероятно -человек.
- Русский?
- Всю жизнь.
- Военный?
- Возможно.
И, оглянув юношу, он сам спрашивает:
- Делаете революцию?
- Сделали!
- Ага...
Старик отвернулся и стал разглядывать витрину букиниста, взяв себя за бороду левой рукою. Юноша, вертясь около него, спросил ещё что-то, но старик, не взглянув на него, сказал спокойно, негромко:
- Идите прочь.
На Семионовской улице, прижавшись к церковной ограде, стоит женщина лет сорока; жёлтое лицо её опухло, глаз почти не видно, рот полуоткрыт, точно она задыхается. Её голые ноги всунуты в огромные башмаки, на башмаках толстая корка сухой грязи. Она окутана в нанковый мужской халат (нанка грубая хлопчатобумажная ткань, начально китайская, по имени города Нанкин Ред.), руки её сложены на груди, голову украшает соломенная шляпа с измятыми листьями и одной ягодой вишни; ягод была целая гроздь, но осталась только одна, голые стебли и какие-то осколки, блестящие, как стекло. Сдвинув густые, красиво изогнутые брови, она внимательно смотрит, как люди втискивают друг друга в вагоны трамвая, как они выпрыгивают, вываливаются с площадок вагонов и бегут во все стороны. Губы женщины вздрагивают, точно она считает людей. А может быть, ожидая кого-то, припоминает слова, которые необходимо сказать при встрече. В красных, узеньких щёлках опухших глаз её светится что-то недоброе, сухое и режущее. Она брезгливо сторонится мальчиков и девочек, торгующих папиросами, раза два, три она даже отталкивала их движениями то локтей, то бедра.
Её тихонько спросили:
- Может быть, вы нуждаетесь в помощи?
Смерив спросившего сердитым взглядом, она ответила так же тихо:
- С чего это вы взяли?
- Извините.
Рядом с нею стояла чистенькая старушка в кружевной наколке, продавая какие-то пеньковые или глиняные лепёшки. Женщина спросила её:
- Вы - дворянка?
- Купчиха.
- А... Сколько жителей в этом городе?
- Не знаю. Много.
- Ужасно много!
- Вы - приезжая?
- Я? Нет. Я здешняя.
Покачнулась и, кивнув старушке смешной головою, пошла к цирку, шаркая по камням тяжёлыми башмаками; они спадали с голых, грязных ног её.
...Она сидит на скамье в саду за цирком, рядом с нею, опираясь на палку, тяжело дышит большая, грузная старуха с каменным лицом, в круглых, чёрных очках, одетая в остатки шубы, в клочья шёлка и серого меха.
Проходя мимо, я слышу хриплый голос, резкие слова:
- Последний порядочный человек в этом городе умер девятнадцать лет тому назад...
А старуха кричит, как глухая:
- Окружный суд сгорел, ходила смотреть, одни стены остались. Сгорел. Наказал бог...
Женщина в огромных башмаках говорит в ухо ей:
- Мои - в тюрьме. Все.
Мне послышалось, что она смеётся.
Быстро, мелкими шагами ходит, почти бегает маленький, очень волосатый человечек с лицом обезьяны, с раздавленным носом. Тёмно-синие зрачки его глаз беспокойно расширены, их окружает тоненькое, опаловое колечко белков. Парусиновое пальто не по росту ему, полы обрезаны неровно и висят бахромой, - точно собаки оборвали их. На ногах у него растоптанные валенки. Он без шляпы, на голове торчат серые вихры, густая, сильно поседевшая борода растрёпанно растёт из-под глаз, под скулами, из ушей. Он бегает и тревожно бормочет что-то, размахивая руками, часто и крепко переплетая пальцы их.
На бульваре, около Народного дома, он говорил солдатам:
- Поймите, - вам особенно нужно понять это! - человек счастлив только тогда, когда помнит, что он - человек ненадолго, и мирится с этим...
Говорит он тихонько, тонким голоском, а по внешнему его виду ждёшь, что он должен бы рычать. Он качается на ногах, одна его рука прижата к сердцу, кистью другой он дирижирует, - руки у него тоже волосатые, на пальцах тёмные кустики. Пред ним, на скамье, трое солдат грызут семечки, сплёвывая шелуху в живот и на ноги человека, четвёртый солдат - с красной ямой на щеке - курит и старается вдунуть струю дыма в рот и нос оратора.