Одинокий город. Упражнения в искусстве одиночества - [50]
Какие из этих прав он сам получил в жизни? Особенно меня задело «право на образование». Оно подчеркивает, сколь грубо и бездушно с Дарджером обращались. Человека можно уничтожить, не прибегая к показательным жестокостям «Царств», можно сокрушить надежды и развеять мечты, задушить талант, отказать способному уму в обучении и образовании и держать его в узилище работы, без награды и будущего, и уж точно не дать ему развить то, что есть в нем, «и ум, и сердце». В этом свете то, что Дарджер смог создать столько всего, оставить такой сияющий след, — поразительно.
Макгрегор усматривал в работах Дарджера навязчивое сексуализированное желание причинять боль. Он читал, что Дарджер отождествляет себя с мужчинами, которые удушали, вешали и рубили беззащитных голых девочек. Другие критики предполагали, напротив, что Дарджер навязчиво воспроизводит травматические сцены насилия над собой самим. Возможно, правы и те, и другие, поскольку единичное действие очень редко оказывается связано с каким-то одним позывом. В то же время остается возможность, что Дарджер на самом деле вел сознательное и смелое исследование природы насилия: как оно выглядит, кто его жертвы и исполнители. Возникают тут и бо́льшие вопросы: каково это — страдать, и всяк ли способен по-настоящему понять внутренний мир другого человека.
По моему мнению, эти картины созданы человеком, преисполненным решимости вновь и вновь вглядываться в разнообразные виды вреда, причиняемого на белом свете. Значительный вес этой версии придали в 2001 году, когда куратор передвижной выставки «Ужасы войны» Клаус Бизенбах собрал вместе картины Дарджера, а также работы братьев Чапменов[105] и Гойи. Выставка вписала Дарджера в контекст истории искусства, представила его не как свихнувшегося аутсайдера, а как прилежного автора своеобразного репортажа о насилии: эта тема никогда не покидала поля зрения Дарджера.
Пока я возилась в архивах, в новостях постоянно мелькали донесения о насилии над детьми, фотографии массовых убийств, кровавых соседских междоусобиц, а это все — составляющие «Царств», случаи словно бы нескончаемых жестокости и зверств. Более того, эти работы можно рассматривать и в некотором смысле как противоположные плодам воображения, — они целиком составлены из образов, существовавших в действительности: из газетных новостей или рекламы, из желанных и ненавистных мелочей нашего сложного общественного мира. Наша культура — культура сексуализированных маленьких девочек и вооруженных мужчин. Дарджер просто придумал совместить их, позволить им свободно взаимодействовать.
Даже тяга Дарджера к накопительству выглядит иначе, если взглянуть на нее через призму масштабных общественных сил. Через несколько недель после моей работы в архиве я ненадолго съездила в Чикаго — посмотреть на копию его комнаты на Уэбстер-стрит, которая теперь размещалась в ИНТУИТе (INTUIT), Музее аутсайдерского искусства. Она оказалась меньше, чем я себе представляла, вход в нее перегораживала алая веревка. Я думала, что дежурный останется, чтобы за мной присматривать, и, вытянув шею, вставала на цыпочки, но, к моему удивлению, веревку отцепили, а меня предоставили себе самой.
Внутри было очень темно. Все покрыто мелкой черной пылью, возможно — уголь или сажа. Стены покрашены в маслянистый бурый и увешаны картинами Дарджера, в том числе и многочисленными раскрашенными вручную портретами девочек Вивиан. Стопки блокнотов и журналов, коробки с резаками, кисточками, пуговицами, перочинными ножиками и цветными ручками. Но больше всего мое внимание привлекли две вещи: стол, заваленный красками и восковыми карандашами, многие — детские, и корзина для грязного белья, наполненная грязными клубками бурой и серебристой бечевки.
Люди-барахольщики обычно замкнуты. Иногда накопительство приводит к обособленности, а иногда оно — какое-никакое лекарство от одиночества, способ самоутешения. Не все склонны к обществу предметов, не все желают хранить и упорядочивать вещи, применять их как заграждения или играть в отторжение и удержание чего-либо. На одном сайте, посвященном аутизму, я наткнулась на обсуждение темы, где кому-то удалось чудесно описать эту жажду: «Да, это для меня немалая беда, и пусть я не уверен в том, что одушевляю предметы, я склонен к своеобразной преданности им, и потому от них трудно избавляться».
Что-то подобное явно происходило и с Дарджером, и все же не стоит забывать и о его бедности — и в смысле нужды быть бережливым, и в отношении физически тесного обиталища. Вопреки грязи, вопреки пристальным взглядам девочек Вивиан на портретах с выцарапанными зрачками, комната в целом не казалась жилищем безумца. Комната бедняка, творческого и изобретательного, такого, кому приходится полагаться только на себя, кто знает, что никто другой ничего не даст, и потому все нужно собирать самому — среди отбросов, очистков города.
Карандаши он изводил до коротеньких огрызков и придумывал, как их надставить при помощи шприцев, — и так пускал в дело все до последнего дюйма. В старые коробки из-под шоколада он складывал бытовые резинки, а полопавшиеся чинил клейкой лентой, не выбрасывал. Краски делал, разводя темперу в крышечках, а крышечки хранил кучами, неиспользованные, — возможно, как символ благополучия, жест обладания и изобилия. Все краски снабжены рукописными этикетками, иногда традиционно — «крапп», «восточный лазоревый», «мов», «кадмий красный средний», а иногда более лично или игриво: «пурпурный грозовых облаков» или «семь не райских темно-зеленых цветов».

Необоримая жажда иллюзии своего могущества, обретаемая на краткие периоды вера в свою способность заполнить пустоту одиночества и повернуть время вспять, стремление забыть о преследующих тебя неудачах и череде потерь, из которых складывается существование: всё это роднит между собой два пристрастия к созданию воображаемой альтернативы жизни — искусство, в частности литературу, и алкоголизм. Британская писательница Оливия Лэнг попыталась рассмотреть эти пристрастия, эти одинаково властные над теми, кто их приобрел, и одинаково разрушительные для них зависимости друг через друга, показав на нескольких знаменитых примерах — Эрнест Хемингуэй, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Теннесси Уильямс, Джон Берримен, Джон Чивер, Реймонд Карвер, — как переплетаются в творчестве равно необходимые для него иллюзия рая и мучительное осознание его невозможности.

Кэти – писательница. Кэти выходит замуж. Это лето 2017 года и мир рушится. Оливия Лэнг превращает свой первый роман в потрясающий, смешной и грубый рассказ о любви во время апокалипсиса. Словно «Прощай, Берлин» XXI века, «Crudo» описывает неспокойное лето 2017 года в реальном времени с точки зрения боящейся обязательств Кэти Акер, а может, и не Кэти Акер. В крайне дорогом тосканском отеле и парализованной Брекситом Великобритании, пытаясь привыкнуть к браку, Кэти проводит первое лето своего четвертого десятка.

От автора В сентябре 1997 года в 9-м номере «Знамени» вышла в свет «Тень слова». За прошедшие годы журнал опубликовал тринадцать моих работ. Передавая эту — четырнадцатую, — которая продолжает цикл монологов («Он» — № 3, 2006, «Восходитель» — № 7, 2006, «Письма из Петербурга» — № 2, 2007), я мысленно отмечаю десятилетие такого тесного сотрудничества. Я искренне благодарю за него редакцию «Знамени» и моего неизменного редактора Елену Сергеевну Холмогорову. Трудясь над «Выкрестом», я не мог обойтись без исследования доктора медицины М.

"Веру в Бога на поток!" - вот призыв нового реалити-шоу, участником которого становится старец Лазарь. Что он получит в конце этого проекта?
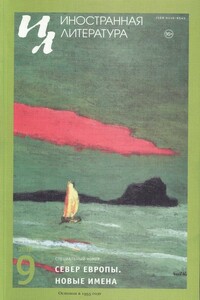
В рубрике «В малом жанре» — рассказы четырех писательниц: Ингвильд Рисёй (Норвегия), Стины Стур (Швеция); Росква Коритзински, Гуннхильд Эйехауг (Норвегия).

Автору книги, которую вы держите в руках, сейчас двадцать два года. Роман «Прощай, рыжий кот» Мати Унт написал еще школьником; впервые роман вышел отдельной книжкой в издании школьного альманаха «Типа-тапа» и сразу стал популярным в Эстонии. Написанное Мати Унтом привлекает молодой свежестью восприятия, непосредственностью и откровенностью. Это исповедь современного нам юноши, где определенно говорится, какие человеческие ценности он готов защищать и что считает неприемлемым, чем дорожит в своих товарищах и каким хочет быть сам.
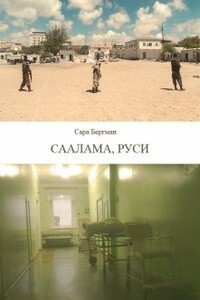
Роман о хирургах и хирургии. О работе, стремлениях и своем месте. Том единственном, где ты свой. Или своя. Даже, если это забытая богом деревня в Сомали. Нигде больше ты уже не сможешь найти себя. И сказать: — Я — военно-полевой хирург. Или: — Это — мой дом.

Да выйдет Афродита из волн морских. Рожденная из крови и семени Урана, восстанет из белой пены. И пойдет по этому миру в поисках любви. Любви среди людей…