Одинокий город. Упражнения в искусстве одиночества - [49]
На заднем плане сразу бросается в глаза девочка с ведерком — тоже одета в розовое, пальчик во рту. «Надо остановить это, — говорит она, как показывает „пузырь“ ее реплики, — но как, самой?» Она не единственный говорящий. Это очень многословная картина. «Удалось поймать совсем немногих. Остальные сбежали. Мы позовем наших друзей, что летают в небе», — говорит нагая девочка, сидящая на корточках в дальнем левом углу картины. «Давайте нападем на убийц», — отзывается ее подружка. Рядом шумно ссорятся два ковбоя: «Она моя, говорю ж тебе. Не дам». — «Отдай-ка. Эту я должен вешать, а не ты. Твоя сбежала». Они дерутся за веревку, конец которой теряется вверху, вероятно на какой-то незримой ветке. На другом конце висит девочка, на ней ничего не надето, кроме синих носочков и туфель, лицо страшного малинового цвета, язык вывалился.
У картины я простояла долго — подробно описывала цвета и композицию. «Трехмерность: половина любого лица/тела покрашена в более темный розовый. Бледное от темного отделяют прочерченные линии. Трое голых, не считая носков и туфель. Горло девочки стиснуто сгибом локтя, рыжие волосы, малиновое лицо. Темно-пурпурное, почти черное платье в тон носкам. Брыкается, колено и кисть руки — за листвой/цветами. Одна — желтый поярче, косички с белыми лентами».
У меня слегка закружилась голова. На дереве сидела белка, свисала гроздь винограда. Разглядывание деталей — способ избежать ошеломляющего воздействия картины, ее продуманной жестокости, того, как она напрашивалась на толкование и не позволяла его — одновременно. Солдат-блондин держал за горло сразу двух девочек, по одной в каждом мясистом кулаке. На мундире у него золотые пуговицы, а взгляд больших синих глаз безучастно уставлен в пространство, совершенно в отрыве от действий его тела.
Боль на этой картине была повсюду, хотя не все способны это осознать. Вообще картину обстоятельно исследовали и обнаружили три разновидности взглядов: взгляд, исполненный муки, взгляд сострадания и взгляд безучастности; на многих лицах — боль и ужас. Трудно решить, что болезненнее всего: страдающие девочки или одеревенелые мужчины с безразличными лицами, не понимающие, что они причиняют боль, либо им все равно и они неспособны заметить ущерб, который наносят чужому телу, другому разумному существу, не способны включиться в это. Итог — хаос, мельканье рук, ног, ртов, волос, творящийся в пейзажах безразличия, на цветущей земле, как и любая война.
Чем занимался Дарджер все эти годы, один у себя в комнате? Можно разок создать что-нибудь подобное, но вообразите, что вы возитесь и возитесь с этим, посвящая свою жизнь осмыслению насилия и уязвимости во всех многочисленных разновидностях. Каков в этом смысл, если сама работа не предназначена для зрителя? Ответы я собирала уже несколько месяцев — и разные задачи, которые другие люди взяли на себя.
Один отклик застрял у меня в голове. Я нашла его в биографии авторства Джона Макгрегора, а эта работа, очевидно, — плод многих лет раздумий и труда. И тем не менее были в ней утверждения, которые мне оказалось трудно принять. Он желал развеять представление, что Дарджер был осознанным художником — что он вообще был художником, а не душевнобольным человеком, работа его — симптом, навязчивое действие, столь же бессмысленное, как и странный жест из детства Дарджера, словно он бросается снегом.
Этот бесконечный поток слов и картинок, — писал Макгрегор, — порожден его умом с той же неуклонностью и силой, с какой день за днем его тело исторгало фекалии. Дарджер писал под действием неумолимого позыва внутренней необходимости… Ни разу его ви́дение не достигло свободного, спонтанного или намеренного проявления творческой силы. Его письменные и изобразительные творения — прямое и неизбежное проявление умственного состояния, странного, неотвратимо сильного и далекого от нормального. Неповторимый личный стиль, какой мы изучили в контексте его письма, — несомненно, плод психиатрических, а возможно, даже невротических аномалий, какие проявлялись всю его жизнь.
Трудно соотнести это заявление с тем, что я видела сама: папка за папкой свидетельств творческих решений, сделанных выборов и устраненных трудностей, хотя, если б ни читала ничего у Дэвида Войнаровича, возможно, я бы приняла выводы Макгрегора легче. Но история Дарджера смотрится иначе, если знать о Войнаровиче, то есть о жестокости и насилии, о нищете и разрушительных последствиях стыда. Войнаровичу хватило отваги и красноречия, чтобы защитить собственные работы, но то, что он говорил о себе, о своих побуждениях и намерениях, применимо и шире. По крайней мере, они подталкивают задавать вопросы о силах, классовости и власти в работах незащищенных или социально отчужденных художников.
Невозможно думать о Дарджере или Соланас, уж раз на то пошло, не думая одновременно об ущербе, какой общество причиняет отдельным людям: о роли структур, подобных семье, школе и правительствам, в переживании обособленности у любого одинокого человека. Считать, будто душевной болезнью можно целиком истолковать Дарджера, — не только фактически неверно, это неверно еще и нравственно, это акт и жестокости, и заблуждения. Едва ли не самая грустная и красноречивая из всех его работ — декларация детской независимости, которую он сочинил для «Царств». В списке прав он указал: «играть, быть счастливыми и мечтать; право на нормальный сон в ночную пору, право на образование, чтобы у нас были равные возможности развивать все, что есть в нас, и ум, и сердце».

Необоримая жажда иллюзии своего могущества, обретаемая на краткие периоды вера в свою способность заполнить пустоту одиночества и повернуть время вспять, стремление забыть о преследующих тебя неудачах и череде потерь, из которых складывается существование: всё это роднит между собой два пристрастия к созданию воображаемой альтернативы жизни — искусство, в частности литературу, и алкоголизм. Британская писательница Оливия Лэнг попыталась рассмотреть эти пристрастия, эти одинаково властные над теми, кто их приобрел, и одинаково разрушительные для них зависимости друг через друга, показав на нескольких знаменитых примерах — Эрнест Хемингуэй, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Теннесси Уильямс, Джон Берримен, Джон Чивер, Реймонд Карвер, — как переплетаются в творчестве равно необходимые для него иллюзия рая и мучительное осознание его невозможности.

Кэти – писательница. Кэти выходит замуж. Это лето 2017 года и мир рушится. Оливия Лэнг превращает свой первый роман в потрясающий, смешной и грубый рассказ о любви во время апокалипсиса. Словно «Прощай, Берлин» XXI века, «Crudo» описывает неспокойное лето 2017 года в реальном времени с точки зрения боящейся обязательств Кэти Акер, а может, и не Кэти Акер. В крайне дорогом тосканском отеле и парализованной Брекситом Великобритании, пытаясь привыкнуть к браку, Кэти проводит первое лето своего четвертого десятка.

От автора В сентябре 1997 года в 9-м номере «Знамени» вышла в свет «Тень слова». За прошедшие годы журнал опубликовал тринадцать моих работ. Передавая эту — четырнадцатую, — которая продолжает цикл монологов («Он» — № 3, 2006, «Восходитель» — № 7, 2006, «Письма из Петербурга» — № 2, 2007), я мысленно отмечаю десятилетие такого тесного сотрудничества. Я искренне благодарю за него редакцию «Знамени» и моего неизменного редактора Елену Сергеевну Холмогорову. Трудясь над «Выкрестом», я не мог обойтись без исследования доктора медицины М.

"Веру в Бога на поток!" - вот призыв нового реалити-шоу, участником которого становится старец Лазарь. Что он получит в конце этого проекта?
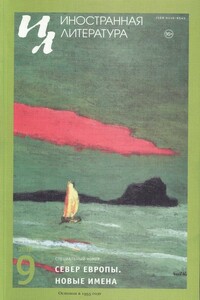
В рубрике «В малом жанре» — рассказы четырех писательниц: Ингвильд Рисёй (Норвегия), Стины Стур (Швеция); Росква Коритзински, Гуннхильд Эйехауг (Норвегия).

Автору книги, которую вы держите в руках, сейчас двадцать два года. Роман «Прощай, рыжий кот» Мати Унт написал еще школьником; впервые роман вышел отдельной книжкой в издании школьного альманаха «Типа-тапа» и сразу стал популярным в Эстонии. Написанное Мати Унтом привлекает молодой свежестью восприятия, непосредственностью и откровенностью. Это исповедь современного нам юноши, где определенно говорится, какие человеческие ценности он готов защищать и что считает неприемлемым, чем дорожит в своих товарищах и каким хочет быть сам.
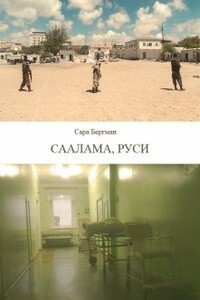
Роман о хирургах и хирургии. О работе, стремлениях и своем месте. Том единственном, где ты свой. Или своя. Даже, если это забытая богом деревня в Сомали. Нигде больше ты уже не сможешь найти себя. И сказать: — Я — военно-полевой хирург. Или: — Это — мой дом.

Да выйдет Афродита из волн морских. Рожденная из крови и семени Урана, восстанет из белой пены. И пойдет по этому миру в поисках любви. Любви среди людей…