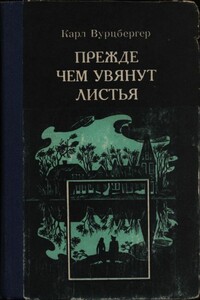Я сообщил в ответ, что я эгоист и думаю не о мире, а только о себе и с удовольствием бы принял в таком смешении посильное участие, но эстонские пограничники воспрепятствовали мне в этом. «Эстонцы — народ очень тихий и весьма любезный», — прервал меня Солженицын, я сразу понял, о чем он собирается говорить — конечно, о том, как он сидел в лагере вместе со многими эстонцами, которые все были чрезвычайно милые и честные люди, и быстренько поддакнул ему, вставив, что я совершенно с ним согласен: высаживая меня из поезда, эстонцы тоже были очень любезны, и если б им пришлось в соответствии с какими-то своими законами меня расстрелять (ведь они более чем законопослушны), то они и эту процедуру наверняка провели бы с наивеличайшей учтивостью. Солженицын вздохнул тяжко, как Атлант, который держит на плечах весь земной шар, но до того, как он успел мне ответить, открылась дверь, и вошел малорослый еврей средних лет с кокаиновым взглядом. «Осип, дорогой, иди, я представлю тебе армянского писателя, будущего лауреата Нобелевской премии», — закричал Солженицын с таким примерно жестом, каким эстрадный конферансье представляет публике очередную певичку. Я, кстати, отнюдь не уверен, принял ли бы я вообще Нобелевскую премию, поскольку из нее давно сделали атрибут политики, нет, наверно, все-таки принял бы — ради детей. «А почему бы и нет, если турки не распорют ему живот, все может случиться, — сказал малорослый с кокаиновым взглядом, подошел и представился: — Мандельштам». — «Как это я вас не узнал, — хлопнул я себя по лбу, — я ведь видел вас на фотографиях!» И тут же поинтересовался тем, что меня всегда занимало: откуда он взял, что в Ереване можно встретить синицу, если единственные птицы, которых я там видел и слышал, кроме ласточек, — это воробьи. «Возможно, я ошибся, — ответил Мандельштам рассудительно, — я проконсультируюсь на этот счет с Сережей Есениным, он у нас специалист по птичьим голосам». Я попросил Мандельштама, чтобы он передал Есенину и насчет целования девушек в грудь по образцу Саади — что с этим все в порядке. «С удовольствием, — сказал Мандельштам, — но почему бы вам не пойти и не поговорить с ним самому, ему наверняка было бы интересно встретиться с соотечественником Шаганэ». Я не успел ответить, потому что Солженицын, который, кажется, обиделся, что мы исключили его из беседы, сделал мне замечание, как это я не постеснялся явиться в гости в спортивных штанах. На это Мандельштам сказал флегматически: «Ну не без штанов же…» — «Разумеется, евреи и армяне всегда защищают друг друга», — обронил Солженицын саркастически. «Наоборот, между нами вечная конкуренция на звание самого многострадального из народов», — возразил я. «Не только, — добавил Мандельштам, и в его кокаиновых глазах блеснул веселый огонек, — еще говорят: где армянин прошел, там еврею делать нечего».
В это мгновение открылась дверь, и вошло много народа: жена и сыновья Солженицына, Горбачев, Рейган, Катрин Денёв и еще десяток человек с телекамерами, прожекторами и кабелем. Солженицын состроил сердитую мину и спросил, почему это писателям мешают во время важного разговора, но его жена ответила снисходительно: «Господи, ты что, забыл, что сам позвал их к этому часу?!» Теперь уже Солженицын театрально схватился за голову, будто бы в самом деле забыл, но я сразу понял, что он ломает комедию, а в действительности весьма польщен приходом новых гостей.
Все подошли ближе, Солженицын представил нас друг другу, я воспользовался случаем, чтоб поцеловать руку Катрин Денёв и сказать, что всегда мечтал с ней познакомиться. Горбачев и Рейган приветствовали всех внешне дружелюбно, но думали явно о другом, потому что, едва дождавшись завершения церемонии, сразу заспорили между собой по-армянски на тему, было советское государство империей зла или нет. «Может, выйдем в сад?» — шепнул я на ухо Катрин Денёв, но она, чуть наклонившись, прошептала в ответ: «Что вы, Трдат, я же выше вас!» Я почувствовал, что краснею, извинился и выскользнул наружу один.
На лужайке горел костер, у костра сидел Мандельштам, который, получается, вышел из дому раньше, и жарил шашлык. «Мясо еще сырое», — сказал он, увидев меня, и показал на свободный чурбак рядом с собой. Я сел, Мандельштам нашарил в траве бутылку шерри-бренди, откупорил ее и протянул мне. «Спасибо, я не пью», — ответил я и вдруг обнаружил, что шашлык вовсе не такой, каким ему следовало бы быть. «Здесь только мясо, — запротестовал я, — а где баклажаны, помидоры и перец?» Мандельштам безнадежно махнул рукой — жест, которым пользуются отцы, когда речь заходит об их неудавшихся сыновьях. И буркнул: «У Солженицына скупая жена». Мясо шипело на вертеле, из дому слышались голоса — там бурно о чем-то спорили, а вокруг нас светилась белая ночь. «Интересно, — подумал я, — откуда в Вермонте белые ночи?» Посмотрел наверх и только теперь увидел, что с вершин деревьев и крыш дома и флигеля гроздьями свешиваются ослепительно светящиеся прожектора. «Тут что, будут снимать кино?» — спросил я с любопытством. «А вы не знали?» — удивился Мандельштам. «Что?» — «