Облака - [7]
Это было 21 мая… Он сопровождал ее на свадьбу одной из ее подруг… И она, опьяненная пенистым, вдохновенным вином и своей красотой, шалила, смеялась; она шутила, звонко смеялась с толпой безусых юношей, которые завтра должны были сдавать переходный экзамен.
Вдруг она воскликнула: «В Петровский парк! Сейчас! В Петровский парк! Дон-Кихот!» (так она звала Борисоглебского). «Вы сейчас едете с нами в Петровский парк!»
Борисоглебский пожал плечами, но только внутри себя — горько улыбнулся, но внутри себя. Только готовность повиноваться выражалась его наружностью.
И вот подъехал Ноев ковчег, привезший их… И она, опьяненная пенистым вином, кричала безусым юношам, одетым в форму: «Садитесь! Скорее! Все, все садитесь!»
Ноев ковчег тронулся… Сколько в нем было пар животных чистых, и сколько нечистых??
Достоверно одно: что и чистым животным и нечистым — всем здесь было, как сельдям в бочке. Это был настоящий эмпирический микрокосм.
Ночь уже спустилась; хаос, все уравнивающий, стирающий ценности, обезличивающий, претворяющий в вечность — воцарился и вобрал в себя Ноев ковчег. Уже не было в нем животных чистых, не было и нечистых.
Но зрение Борисоглебского было затемнено, затуманено; он еще не освободился от призраков эмпирического мира. Он видел, слышал то, чего не было: цинические улыбки, бесстыдные прикосновения, неприкрытые похотливые речи… Не во сне ли это было?..
XV
Ноев ковчег грохотал по скверной московской мостовой, несмотря на резиновые шины; бесстыдный смех звенел в ушах… Было это во сне или наяву?
Все продолжалось в меняющейся обстановке… Но нет; затихал смех; занавес вещего молчания опускался. Подымалось покрывало Майи.
Было пространство, освещенное синеватым светом дуговых фонарей; смех замолкал. Было ли это наяву?
Уже юноши стали спрашивать друг у друга о числе недоученных билетов… О, эмпирический мир! Мстителен ты, зол и мелок.
И волны злобного, гневного чувства вставали в душе Борисоглебского; заливали все… Ему хотелось холодной мести, чтобы отомстить за смех, поругание над мечтой.
Ночь улыбалась, вечная и бесстрастная.
Тогда он с своей дамой сел в Ноев ковчег. Мостовая грохотала под железными копытами лошадей… Во сне ли это было?
Во сне или наяву был он с ней в тесной комнатке, оклеенной грязными обоями… Комната звалась отдельным кабинетом; то и другое было не совсем верно. Вот опрокинулся бокал шампанского…
«Домой!» — сказала она. Все по ее словам. Вот лифт, вот вагончик — тот самый… Но необратимы процессы эмпирического мира!
Сейчас эта дверь закроется за ней. Он обнял ее, целовал, целовал… Довольно! сказала она. Поняла ли она, что поцелуи эти были злобны и объятия эти были мстительны? Но было ли это наяву? Не во сне ли?
И он удалился. Захлопнул дверь за ним швейцар Петр, получив свой регулярный четвертак. Он шел по сонной мостовой, сопровождаемый Ночью.
Пришел. Не пошел к себе; пошел в сад, сел на простую скамейку под кустом сирени, положил руки на стол, склонил голову; закрыл глаза. Было ли это во сне или наяву?
XVI
Вдруг раскаленный металл обжег его шею. Он поднялся; обернулся назад.
В небесах была змеевидная трещина, и сквозь нее глядел одинокий глаз утреннего солнца.
Небеса насыщались пожаром, и оглушительный грохот меди раздавался в эфире.
Уже давно не было ни Ночи, ни звезд.
И мечты ночной души рассеивались одна за другою.
Глава третья
I
Купол Спасителя высился во мгле загадочным богатырским призраком. Это Туман, приспешник и послушная собака Ночи, захватил в свои цепкие лапы все, что стояло и двигалось на земной поверхности: соборы, дома, улицы, бульвары, бездомных нищих и уличных женщин. Но это обнаружилось, как только взошло солнце; и под его ударами нехотя таял туман. Кругом разливался день, ясный и чарующе спокойный; далеко разносился петуший крик; отчетливо рисовались далекие тени, и глаз веселился, ловя контуры на недоступных расстояниях. И душа точно расширялась вместе с зреньем; обнимала все большее и большее; и расширение сопровождалось чувством успокоения, исчезновения, какое должен испытывать комок газообразной материи, когда он, вырвавшись из сферы притяжения светил, расплывается по бесконечным угольным мешкам пространства. Хотелось слышать крик отлетающих журавлей в высоком небе; но журавли не пролетали над большим и буйным городом, где вместо травяного покрова были камни, а деревья стояли серые, покрытые толстым слоем пыли. И уже пыль хитрым пресмыкающимся поднималась из-под ног проходящих, из под лошадиных копыт, из-под железных и резиновых шин; начавшись на улицах, мало-помалу проникала в переулки, пропускала свои щупальца внутрь домов и скоро овладела всем, что было в городе. Над горизонтом поднялась фиолетово-серая завеса, точно облачный занавес во время тайной перемены декораций. И город, закрывшись завесой со всех сторон, предавался опьянению дневной суетой, не думая о том, что воздух дивно спокоен и что солнечные лучи уже превращаются в золото и пурпур, проникая сквозь листву. А за городом в это время таинственное дуновение изредка набегало на камыши, окружавшие берег пруда, и камышовые головки, склоняясь друг к другу, загадочно шептали непонятные и вещие слова; и едва заметно рябилась зеркально-упругая и холодная водяная гладь.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые опубликовано – в альманахе «Война золотом. Альманах приключении», М. 1927. Издание это изобилует опечатками, обессмысливающими текст. Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Очередной выпуск серии «Scriptorium» представляет читателю библиофильский раритет — «Описание курицы, имеющей в профиле фигуру человека» Г. И. Фишера фон Вальдгейма. Эта курьезная книжка вышла в свет в 1815 г. и с тех пор прочно вошла в список русских книжных редкостей.
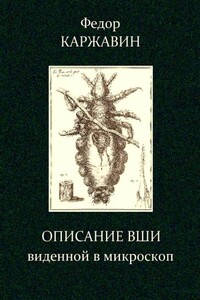
В издании воспроизведена книжка загадочного литератора, просветителя, вольнодумца и авантюриста Ф. В. Каржавина «Описание вши» (1789), известная как одна из величайших русских библиографических редкостей.

В книгу вошел сценарий В. Шкловского «Два броневика», впервые опубликованный в 1928 г. В приложении — статья Я. Левченко о броневиках в прозе В. Шкловского.
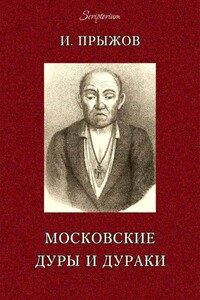
В настоящее издание вошли труды писателя, историка, этнографа и каторжника-«нечаевца» И. Г. Прыжова (1827–1885) «Житие Ивана Яковлевича, известного пророка в Москве» и «26 московских лжепророков, лжеюродивых, дур и дураков». В книгу также включен памфлет публициста Я. Горицкого «Протест Ивана Яковлевича, на господина Прыжова, за название его лжепророком», написанный от лица юродивого И. Я. Корейши.