Новый мир, 2012 № 11 - [6]
В холле гостиницы было почти пусто. В глубине на диване сидел небольшой круглый пожилой мужчина с бабочкой на шее, рядом с ним такая же компактная пожилая женщина с твердой золотистой прической, а перед ними стоял расплывшийся, явно российский человек чиновничьего вида. Женщина что-то настойчиво говорила чиновнику.
А моих родственников не было.
Я присела на наименее пышное кресло и стала ждать. И невольно прислушивалась к разговору сидевших на диване. Разговор, на непонятном языке, звучал горячо и гневно. Женщина то и дело вскрикивала нечто вроде “Абекебан, абекебан!”, а чиновник в ответ делал успокаивающие жесты обеими руками и что-то невнятно отвечал. Наконец женщина не выдержала, вскочила на ноги и воскликнула громко и раздельно: “I beg your pardon!”, на что чиновник так же громко и раздельно ответил: “But, Missis Gross...” Тут я поняла, что эта небольшая округлая пара и есть моя тетка Франци и ее муж, Фриц Гросс.
Итак, они побывали в России, я с ними познакомилась, переживание, потрясение были немалые — и родственники, и люди из другого мира. Все это и волновало и интересовало, но... побывали и исчезли обратно в свой другой мир. Все это прошло рядом со мной как-то по касательной, словно за стеклом, словно во сне. Чувства, что все это имеет ко мне прямое отношение, почему-то у меня не было. Казалось бы, сразу после их отъезда или даже раньше, как только о них узнала, я должна была бы схватиться за английский язык. А мне это даже и в голову не пришло, мне вполне хватало переводческой помощи брата, который как раз английский изучал и знал. Я по-прежнему обожала свой французский и читала по-польски популярный журнал “Пшекруй”.
И вот в 68-м году я получила от них приглашение приехать на три месяца в гости в Лондон. В гости? В гости в капстраны никто из знакомых мне людей тогда не ездил. Изредка некоторые, особо надежные, отправлялись в групповые турпоездки, а еще более редкие, еще более надежные и проверенные — в деловые командировки. А просто так, без всякой проверки, без всякого надзора, просто в гости к тетке? Да и время было смутное, как раз после нашего вторжения в братскую Чехословакию. Не выпустят тебя, не поедешь, говорили мне все.
А я поехала. Сделалось это так.
Мой отец, некогда венский, а позже советский еврей, сорокавосьмилетний интеллигент до мозга костей, в первые же дни войны вступил в ряды добровольческой бригады, состоявшей в основном из таких же, как он, пожилых вояк-интеллигентов. Три месяца спустя он погиб в окружении под Вязьмой, как и большая часть всей бригады. Стрелять они не умели, да и не из чего им было стрелять. Спустя много лет я встретила свидетеля их гибели, чудом уцелевшего бойца этой бригады. Пленных выстроили у леса, раздалась рутинная немецкая команда: “Евреи и коммунисты, шаг вперед!” Отца расстреляли и за то и за это.
До эмиграции в СССР он был членом коммунистической партии Австрии. Моя сообразительная тетя Франци обратилась в ЦК австрийской компартии, объяснила ситуацию, объяснила, что она очень хочет пригласить из России дочь любимого старшего брата, погибшего героя войны с нацистами. И не могут ли они посодействовать этому, походатайствовать перед компартией Советского Союза.
И они, видимо, что-то сделали — так или иначе, я сравнительно быстро получила разрешение поехать в Лондон. А проверка — проверка была ничтожная. Пришел как-то милиционер, посидел минут пятнадцать, позадавал паспортные вопросы, записал ответы, ничего не объяснил и ушел.
А я бросилась наконец изучать английский язык. Тут и начались наши с ним отношения, с годами выросшие (с моей стороны) в величайшую симпатию, привязанность, которые я питаю к нему и по сей день. Общение с ним неизменно доставляет мне удовольствие. Как он относится ко мне — не берусь судить, хочу надеяться, что, по крайней мере, снисходительно.
Английский дался мне и легче и тяжелее, чем французский. Французский я мусолила многие годы, с четвертого класса школы изучала его и изучала, не побуждаемая к тому ничем, кроме своей подростковой любви. Изучала с грамматикой, со всеми правилами и неправильностями, со спряжениями и исключениями, столь многочисленными во французском языке. А английский пришлось хватать с налету, лобовой атакой, где придется и как придется.
Я начала было брать уроки у такой светской советской дамы-англичанки, вдовы Литвинова, некогда посла в Англии, и матери известного впоследствии — и тогда уже — диссидента Паши Литвинова.
Дама она была не знаю какого происхождения, но держалась необычайно аристократично и не столько обучала меня английскому языку, сколько пыталась внушить мне кое-какие пристойные манеры. Это ей совершенно не удалось — я не понимала, что она имеет в виду и зачем она указывает мне на разные мои, по ее мнению неловкие, поступки.
Латинские буквы были мне знакомы из французского и польского. Как произносить их по-английски, я не знала, и она мне скороговоркой продемонстрировала. Ничего я не усвоила, но времени было очень мало. Система обучения у нее была отличная, позанимайся я у нее год-другой — научилась бы, наверное, читать и писать, а еще через годик — и говорить. Но мне нужно было немедленно и именно говорить. Поэтому я очень злилась, когда вместо расхожих разговорных фраз она велела мне заучить наизусть кусочек текста из учебника. Кусочек этот я заучила намертво, так что помню его до сих пор, и начинался он так: “What are you doing in there, Jim?

Однажды окружающий мир начинает рушиться. Незнакомые места и странные персонажи вытесняют привычную реальность. Страх поглощает и очень хочется вернуться к привычной жизни. Но есть ли куда возвращаться?

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.
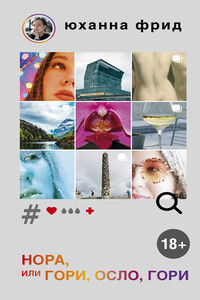
Когда твой парень общается со своей бывшей, интеллектуальной красоткой, звездой Инстаграма и тонкой столичной штучкой, – как здесь не ревновать? Вот Юханна и ревнует. Не спит ночами, просматривает фотографии Норы, закатывает Эмилю громкие скандалы. И отравляет, отравляет себя и свои отношения. Да и все вокруг тоже. «Гори, Осло, гори» – автобиографический роман молодой шведской писательницы о любовном треугольнике между тремя людьми и тремя скандинавскими столицами: Юханной из Стокгольма, Эмилем из Копенгагена и Норой из Осло.

Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.

Французская романистка Карин Тюиль, выпустившая более десяти успешных книг, стала по-настоящему знаменитой с выходом в 2019 году романа «Дела человеческие», в центре которого громкий судебный процесс об изнасиловании и «серой зоне» согласия. На наших глазах расстается блестящая парижская пара – популярный телеведущий, любимец публики Жан Фарель и его жена Клер, известная журналистка, отстаивающая права женщин. Надлом происходит и в другой семье: лицейский преподаватель Адам Визман теряет голову от любви к Клер, отвечающей ему взаимностью.
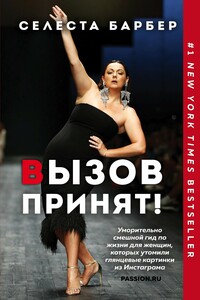
Селеста Барбер – актриса и комик из Австралии. Несколько лет назад она начала публиковать в своем инстаграм-аккаунте пародии на инста-див и фешен-съемки, где девушки с идеальными телами сидят в претенциозных позах, артистично изгибаются или непринужденно пьют утренний смузи в одном белье. Нужно сказать, что Селеста родила двоих детей и размер ее одежды совсем не S. За восемнадцать месяцев количество ее подписчиков выросло до 3 миллионов. Она стала живым воплощением той женской части инстаграма, что наблюдает за глянцевыми картинками со смесью скепсиса, зависти и восхищения, – то есть большинства женщин, у которых слишком много забот, чтобы с непринужденным видом жевать лист органического салата или медитировать на морском побережье с укладкой и макияжем.
