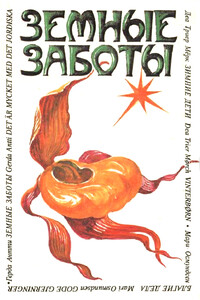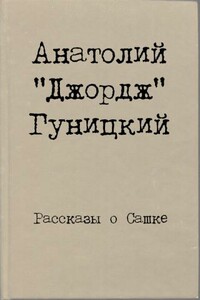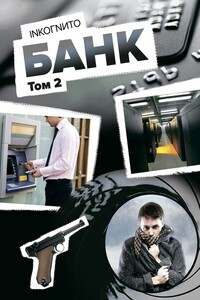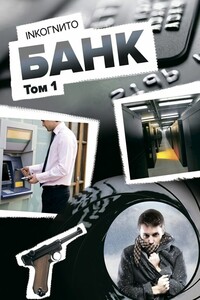«Прослышав о собрании ветеранов-коммунистов Праги-8, сюда пришли гости из других районов» («Правда», 4 ноября 1968).
Разговоры
— Я ведь тоже в отпуске нахожусь, правда, Лена?.. — мужчина — женщине, увещевательно.
Август 1967, на улице.
Семидесятые
1970
Июль. Рига.
Двое сидели за столиком. Один, толстый и черноволосый, с еще детски пухлым ртом, все время говорил. Другой, белокурый и в очках, сидел свободно, вытянув длинные ноги под стол, но не совсем, однако, свободно, а стараясь сидеть так, как будет сидеть он, взрослый мужчина, лет через пять, уже без всяких стараний. Толстый говорил, белокурый слушал. Оба они тянули молочный коктейль через трубочки.
И было понятно тем, кто глядел на этих мальчиков, что вот оно — близкое уже будущее, что вот-вот прогудит гудок, по которому надо кончать работу. Поколение пятилось, выходило из игры, не успев сделать ходов. Все оставалось невостребованным — силы, надежды, темперамент, все их притязания. Даже святого права на усталость они были лишены. Они уходили не потратившись.
Осень. Москва.
Молодой парень с хорошим лицом, крутя баранку, рассказывал мультфильм:
— Тогда он ложит трояк, ему дают бутылку. Буль-буль-буль — и бутылка оказывается в животе…
Лицо его озарялось улыбкой, прекрасные серые глаза сияли. Невозможно было отделаться от ощущения, что он рассказывает о прекрасном концерте с замечательными исполнителями.
12–13 сентября. Под Суздалем (с мамой на ее родине).
В 6.20 утра — Гаврилов Посад.
Колокол на вокзальном здании — на изогнутом кронштейне. В расписании поездов приписано от руки: «Поезд в ходу по субботам и воскресеньям».
От маминого детства сохранился вокзал и рядом — дом железнодорожный: там у родственников останавливались, когда ехали куда-нибудь на поезде.
Двенадцать верст до села Кистыш. После часа-полутора пешего хода через поля подымается из-за горизонта купол: колокольня — это значит, что пройдено полпути.
Село Кистыш. Большая церковь, поповский дом.
Посредине села — памятник погибшим из двух сел, Кистыша и Вишенок (в полуверсте), на доске выбиты фамилии. Почти каждая повторяется несколько раз. Различаются только инициалы:
Агаревы — 2
Аристовы — 6
Быченковы — 2
Ганичевы — 2
Гориновы (трое)
Демины (четверо)
Демьяновы (двое)
Ермолаев
Евсеевы (двое)
Жильцовы (четверо, среди них — мой дядя Рома, муж единственной маминой сестры тети Лены, оставшейся с пятью детьми)
Зубаковы (двое)
Задворновы (двое)
Кошелёвы (двое)
Илларионовы (двое)
Муратовы — 6
Площадновы — 2
Садовников
Самойлов Н. Я. (племянник моей няни)
Сидорычевы — 8
Срывковы — 2
Талатёнковы — 2
Тарасовы — 9
Трусовы — 2
Туманов
Тяглецовы — 5
Федоровы
Фроловы
Хахалов
Чесноков
Чувашов
Шибановский
Якимовы — 5
Вишенки
Из всей деревни вернулись двое, ушли же бессчетно.
За образами письмо: «…Благодарим Вас за Вашего мужа, за его бдительность и за его зоркое смотрение. Любите его так же, как мы любили».
Рассказы и разговоры
Лизаветы Чесноковой, Шуры Шибаносковой, Федора Малова и других жителей Вишенок
— Праздник — идем молиться — к завтрене (с 6 до 8). Помолимся; завтреня отойдет — идем одеваться в другую одёжу, получше, и сразу опять к обедне (к 9-ти). Утром-то тёмно — не видно.
От обедни придем, пообедаем (переоденемся в домашнее), потом одеваем поддоброе (похуже) до 12 часов. В 12 чаю попьем — и тогда уж одеваются в доброе — на гулянку.
— Сроду дурой не назывывал.
— Слова никогда не скажет, только поизморщится, и все, — (про сына).
— Была в Москве, ходила по доске,
Упала в грязь и стала князь.
— Меня-то не изваракай.
— Сельско хозяйство штука трудная.
— Я был на финск им фронте…
Они говорят:
— Ты куда?
— На фронт иду.
— Ну и мы с тобой.
— Я — старшина! — кричит. — Неуж, говорю, я не вижу, что ты старшина? Я говорю — ты на фронте был ли?
Баляба
— Шибаносков — он был один сынок у Андреяна. Он пришел с работы с гармонью и запел:
Ты секира, ты секира,
Востротоценый топор,
Испеките, тятька с мамкой,
Мне с картоцкой пирозок.
Андреян говорит:
— Ну, прослезил ты меня, батюшка, этой песней.
Вот с тех пор его и прозвали Баляба.
Москва.
Они любили своих мужчин всегда, во все эпохи, во всех костюмах. Они любили их в картузах и толстовках начала 20-х годов, в мятых брюках и парусиновых туфлях времени второй пятилетки, в толстых свитерах грубой вязки и валенках или унтах уезжавших в Сибирь или на Север. Светловолосые, с небрежно откинутыми назад прядями, мужчины смеялись с киноафиш и с кадров кинохроники. Белозубые, широкоплечие, они обнимали своих подруг, и грубошерстный свитер был успокоительно мягок для нежных щек хрупких женщин этого времени. (Да, в те годы женщины вновь на глазах становились хрупкими!) Неужели шелестящая, скользкая, холодная поверхность коротких плащей, в которые оделись все мужчины 60-х годов, действовала так же успокоительно на их длинноногих женщин?…Те, в свитерах, стояли широко расставив ноги, распахнув полушубки. Они заключали бегущих к ним женщин в свои непомерные объятия, и полы полушубков смыкались над узкими спинами.
Мужчины в свистящих куртках были плотно застегнуты, а горло их красиво задрапировано в мохеровые шарфы. Но если даже эти куртки и плащи были расстегнуты, все равно одеяния не подходили для того, чтобы их кургузые полы могли запахнуть женщин. И женщины жались к этим курткам, ткань свистела, холодила тело. Обида и горечь вползала в душу.