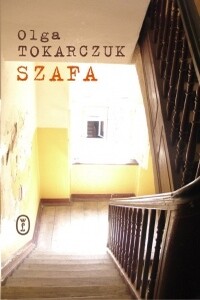Номера - [3]
Я сижу и нюхаю холод и пустоту этого номера, преисполненная уважения к чете японцев, которых знаю только по нематериальной форме стопы в покинутых сандалиях.
Однако пора уходить из этого маленького храма. И я ухожу — тихо, будто вздохнула, — и спускаюсь на пол-этажа, поскольку пришло
Время завтракать
Бело-розовые принцессы других этажей уже сидят на ступеньках и грызут истекающие маслом тосты, запивая их кофе. Рядом со мной Мария, красавица с внешностью индианки, дальше — Анджело, Спец по Грязному Белью, и Педро — похоже, по Чистому: очень уж он солидный. У него борода с проседью и густые черные волосы. Он смахивает на монаха-миссионера, который присел отдохнуть, утомленный своим вдохновенным странствием. Педро читает «Повелителя мух» и некоторые фразы подчеркивает карандашом, а некоторые запивает кофе.
— Педро, какой твой родной язык? — спрашиваю я.
Он поднимает голову над книгой, прочищает горло, будто только проснулся: видно, переводит в уме мой вопрос на свой язык — чем еще объяснить его минутное отсутствие? Ему нужно время, чтобы вернуться в себя, оглядеться, уловить свой основной ритм, назвать его одним словом, перевести это слово и наконец произнести вслух.
— Кастильский.
Мне вдруг становится неловко.
— А где эта Кастилия? — спрашивает Ана, итальянка.
— Кастилия-Бастилия, — философски изрекает Весна, хорошенькая югославка.
Педро рисует карандашом какой-то контур и, спотыкаясь о слова, углубляется в далекие времена, когда люди зачем-то бороздили огромные пространства, которые мы сейчас называем Европой и Азией. По дороге они смешивались, где-то оседали, а потом снова пускались в путь, неся с собой свои языки как знамена. Они составляли огромные семьи, хотя и не знали друг друга, и прочным во всем этом были только слова.
Мы закуриваем, а Педро тем временем чертит графики, выискивает сходства и, точно косточки из вишен, вытаскивает корни из слов. Те, кому эти рассуждения понятны, постепенно уясняют себе, что все мы — все, кто сидит сейчас на ступеньках, прихлебывая кофе и жуя тосты, — некогда говорили на одном языке. Ну, может, не все. Я, например, не решаюсь спросить про свой язык, да и Мирра из Нигерии делает вид, что не понимает. Но когда Педро распростирает над нами темную лохматую тучу предыстории, всем нам хочется под нее забиться.
— Прямо тебе Вавилонская башня, — подытоживает Анджело.
— Да, и так можно сказать, — печально кивает кастилец Педро.
А вот и Маргарет. Прибегает, как всегда, позже всех. Вечно ей не хватает времени, вечно она опаздывает. Маргарет — моя; мы с ней говорим на одном языке, и оттого мне приятно видеть ее ясноглазое, разрумянившееся от трудов лицо, родное и близкое. Я наливаю ей чай и намазываю маслом тост.
— Привет, — по-нашему говорит она, и это становится сигналом: беседа распадается на множество разных наречий.
И вот уже все розово-белые барышни лопочут по-своему; слова, тарахтя как детские кубики, катятся по ступенькам вниз, в кухню, прачечную, в кладовки с бельем. Слышно, как от них вибрирует фундамент отеля «Кэпитал».
Перерыв, к сожалению, заканчивается; надо возвращаться на свой этаж, где меня ждут
Остальные номера
Мы расходимся, продолжая болтать, но длинные коридоры быстренько заставляют нас умолкнуть. Так будет и дальше. Молчание — добродетель горничных во всех гостиницах мира.
Номер 226 выглядит только что заселенным. Чемоданы не распакованы, газета не тронута. Мужчина (в ванной мужская косметика), вероятно, араб (наклейки с арабской вязью на чемодане, арабская книга). Но я сразу же говорю себе: мне-то что за разница, откуда родом очередной гость Отеля и чем он тут занимается. Я имею дело с его вещами. Человек всего лишь причина, по которой эти вещи здесь оказались, тело, перемещающее предметы во времени и пространстве. По сути, все мы временные владельцы таких малых вещей, как одежда, и таких больших, как отель «Кэпитал». И этот араб, и японцы, и я, и даже мисс Ланг. Ничто не изменилось с той поры, о которой рассказывал Педро. Иначе выглядят гостиницы и багаж, но странствие продолжается.
В номере работы немного. Постоялец, видно, приехал поздно ночью и даже не прилег на кровать. Сейчас, вероятно, он отправился в город по делам, а чемоданы распакует, когда вернется. Или поедет дальше по свету, увлекаемый своими непоседливыми пожитками. В ванной я с удовлетворением обнаруживаю, что он не мылся, а вместо туалетной бумаги использовал косметические салфетки.
Нервничал, должно быть, или был слишком занят своими мыслями, что одно на одно выходит. Должно быть, ночью, когда такси привезло его сюда из аэропорта, ни с того ни с сего почувствовал себя не в своей тарелке. В таких случаях вдруг приходит охота заняться сексом. Ничто так не помогает освоиться с окружающим миром, как секс. Наверно, он поспешил на поиски женского или мужского тела, этих утлых лодчонок, которые безболезненно перевозят через любые страхи, любые тревоги.
Номер 227 — точная копия 226-го. Тоже на одного. Только здесь гость живет уже давно. Я бы и не запомнила, когда б не запах — все тот же запах сигарет, алкоголя и беспорядка. И все тот же кавардак — такой, что просто страх берет. Везде стаканы с недопитым спиртным, пепел от сигарет, пролитый сок, мусорная корзина забита бутылками из-под водки, тоника, коньяка. Запах замкнутого круга и безнадеги. Я открываю окно, включаю кондиционер, но от этого атмосфера безысходности только сгущается: налицо контраст между свежим и здоровым и затхлым и больным. Этот тип (не меньше двух дюжин галстуков, перекинутых через дверцу шкафа) отличается от других постояльцев. Не только потому, что пьет и мусорит, — он еще и элементарных правил приличия не соблюдает. Переходит всякие границы самовыражения посредством вещей. Ему плевать, что о нем подумают. Он выплескивает наружу свой внутренний сумбур, доверяя его такой особе, как я. Здесь я чувствую себя сестрой милосердия, и это мне даже нравится. Я перевязываю кровать, израненную ночной бессонницей, вытираю лужицы крови — расплескавшийся по столу сок, выдергиваю, как колючки, бутылки из тела комнаты. Даже пылесос мне нужен для промывки ран. Потом я аккуратно раскладываю на кресле, вероятно, купленные накануне новенькие дорогие игрушки: плюшевые свидетельства гнетущего чувства вины. Должно быть, этот тип долго стоял перед зеркалом, примеряя галстуки. Возможно, даже менял костюмы, однако новый облик всякий раз вызывал у него омерзение. Потом он пошел в ванную — на умывальнике остался недопитый стакан. Этот человек неуклюж и беспомощен: пролил на пол шампунь и пытался вытереть лужу белым полотенцем. Я ему это прощаю. Устраняю следы его промахов. Привожу в порядок его косметику. Я знаю: он боится состариться. Вот крем от морщин, пудра, туалетная вода самой лучшей марки. Есть и румяна, и карандаш для глаз. Каждое утро, напуганный чуждостью собственного лица, он, вероятно, подолгу стоит перед зеркалом, стараясь дрожащими руками придать своему отражению прежние черты. Отражение расплывается; он придвигается поближе, пошатнувшись хватается за зеркало, пачкая его пальцами. Проливает шампунь, разражается бранью, начинает вытирать пол, а потом по-английски, по-французски или по-немецки бормочет: «Да насрать я хотел». И уже готов выйти на свет божий такой, какой есть, но, увидев себя в большом зеркале, капитулирует, возвращается в ванную и заканчивает макияж. Крем-пудрой затушевывает морщинки разочарованности в уголках рта и темные тени под глазами — следы бессонницы, и темные пятна на подбородке — следы приема лекарств. Карандашом подводит глаза, чтоб не так сильно выделялись покрасневшие веки. Наконец решается уйти; когда вернется, ничто в ванной не должно напоминать, как низко он пал. И я здесь для того, чтобы отпустить ему все грехи. В какой-то момент у меня даже возникает желание оставить записку с одной только фразой: «Я тебя прощаю» — пусть подумает, что эти слова написаны самим Провидением, и отправится туда, где дети ждут не дождутся этих плюшевых игрушек, где у галстуков есть свое место в шкафу, где можно с опухшим от выпитого накануне лицом, со стаканом в руке выйти на веранду и во всю глотку проорать миру: «Да насрать я на тебя хотел!»

Ольгу Токарчук можно назвать одним из самых любимых авторов современного читателя — как элитарного, так и достаточно широкого. Новый ее роман «Последние истории» (2004) демонстрирует почерк не просто талантливой молодой писательницы, одной из главных надежд «молодой прозы 1990-х годов», но зрелого прозаика. Три женских мира, открывающиеся читателю в трех главах-повестях, объединены не столько родством героинь, сколько одной универсальной проблемой: переживанием смерти — далекой и близкой, чужой и собственной.

Ольга Токарчук — один из любимых авторов современной Польши (причем любимых читателем как элитарным, так и широким). Роман «Бегуны» принес ей самую престижную в стране литературную премию «Нике». «Бегуны» — своего рода литературная монография путешествий по земному шару и человеческому телу, включающая в себя причудливо связанные и в конечном счете образующие единый сюжет новеллы, повести, фрагменты эссе, путевые записи и проч. Это роман о современных кочевниках, которыми являемся мы все. О внутренней тревоге, которая заставляет человека сниматься с насиженного места.
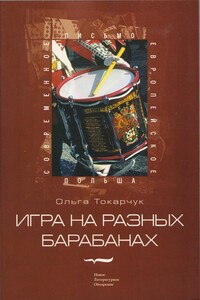
Ольга Токарчук — «звезда» современной польской литературы. Российскому читателю больше известны ее романы, однако она еще и замечательный рассказчик. Сборник ее рассказов «Игра на разных барабанах» подтверждает близость автора к направлению магического реализма в литературе. Почти колдовскими чарами писательница создает художественные миры, одновременно мистические и реальные, но неизменно содержащие мощный заряд правды.

Между реальностью и ирреальностью… Между истиной и мифом… Новое слово в славянском «магическом реализме». Новая глава в развитии жанра «концептуального романа». Сказание о деревне, в которую с октября по март НЕ ПРОНИКАЕТ СОЛНЦЕ.История о снах и яви, в которой одно непросто отличить от другого. История обычных людей, повседневно пребывающих на грани между «домом дневным» — и «домом ночным»…

Ольгу Токарчук можно назвать любимицей польской читающей публики. Книга «Правек и другие времена», ставшая в свое время визитной карточкой писательницы, заставила критиков запомнить ее как создателя своеобразного стиля, понятного и близкого читателю любого уровня подготовленности. Ее письмо наивно и незатейливо, однако поражает мудростью и глубиной. Правек (так называется деревня, история жителей которой прослеживается на протяжение десятилетий XX века) — это символ круговорота времени, в который оказываются втянуты новые и новые поколения людей с их судьбами, неповторимыми и вместе с тем типическими.

Герберт Эйзенрайх (род. в 1925 г. в Линце). В годы второй мировой войны был солдатом, пережил тяжелое ранение и плен. После войны некоторое время учился в Венском университете, затем работал курьером, конторским служащим. Печататься начал как критик и автор фельетонов. В 1953 г. опубликовал первый роман «И во грехе их», где проявил значительное психологическое мастерство, присущее и его новеллам (сборники «Злой прекрасный мир», 1957, и «Так называемые любовные истории», 1965). Удостоен итальянской литературной премии Prix Italia за радиопьесу «Чем мы живем и отчего умираем» (1964).Из сборника «Мимо течет Дунай: Современная австрийская новелла» Издательство «Прогресс», Москва 1971.
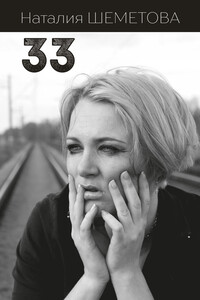
От автора: Вы держите в руках самую искреннюю книгу. Каждая её страничка – душевный стриптиз. Но не пытайтесь отделить реальность от домысла – бесполезно. Роман «33» символичен, потому что последняя страница рукописи отпечатана как раз в день моего 33-летия. Рассказы и повесть написаны чуть позже. В 37 я решила-таки издать книгу. Зачем? Чтобы оставить после себя что-то, кроме постов-репостов, статусов, фоточек в соцсетях. Читайте, возможно, Вам даже понравится.

Как говорила мама Форреста Гампа: «Жизнь – как коробка шоколадных конфет – никогда не знаешь, что попадется». Персонажи этой книги в основном обычные люди, загнанные в тяжелые условия жестокой действительности. Однако, даже осознавая жизнь такой, какой она есть на самом деле, они не перестают надеяться, что смогут отыскать среди вселенского безумия свой «святой грааль», обретя наконец долгожданный покой и свободу, а от того полны решимости идти до конца.

Мы живем так, будто в запасе еще сто жизней - тратим драгоценное время на глупости, совершаем роковые ошибки в надежде на второй шанс. А если вам скажут, что эта жизнь последняя, и есть только ночь, чтобы вспомнить прошлое? .

«На следующий день после праздника Крещения брат пригласил к себе в город. Полгода прошло, надо помянуть. Я приоделся: джинсы, итальянским гомиком придуманные, свитерок бабского цвета. Сейчас косить под гея – самый писк. В деревне поживешь, на отшибе, начнешь и для выхода в продуктовый под гея косить. Поверх всего пуховик, без пуховика нельзя, морозы как раз заняли нашу территорию…».

«…Я остановился перед сверкающими дверями салона красоты, потоптался немного, дёрнул дверь на себя, прочёл надпись «от себя», толкнул дверь и оказался внутри.Повсюду царили роскошь и благоухание. Стены мерцали цветом тусклого серебра, в зеркалах, обрамленных золочёной резьбой, проплывали таинственные отражения, хрустальные люстры струили приглушенный таинственный свет. По этому чертогу порхали кокетливые нимфы в белом. За стойкой портье, больше похожей на колесницу царицы Нефертити, горделиво стояла девушка безупречных форм и размеров, качественно выкрашенная под платиновую блондинку.