Ницше - [222]
Сказанное относится к развитию точных наук и к развитию философских представлений о самой истине (к гносеологии и эпистемологии):
Если мы сравним, например, систему доказательств современных логиков с доказательствами, которыми удовлетворялись те, кого мы сегодня называем «великими предками» — Уайтхед и Рассел, — то обнаружим значительно возросшую строгость рассуждений. Работы современных математиков, которые с помощью «рефлексирующей абстракции» извлекают новые операции из уже известных или новые структуры из предшествующих структур, привели к обогащению фундаментальных понятий, не противореча им, но реорганизуя их самым неожиданным образом. Известно, что в физике не осталось ни одного принципа, который не изменил свою форму и содержание. Законы, казалось бы, наиболее твердо установленные, стали в определенной степени относительными, заняв новое место в системе в целом. В биологии, где точность еще не достигла такой степени и где важнейшие проблемы все еще не решены, происшедшие перемены также впечатляющи.
Основополагающая идея «Процесса и реальности» Уайтхеда состоит в том, что человеческий опыт — принадлежащий природе процесс, имеющий собственное физическое существование. Отсюда, с одной стороны, отказ от философской традиции, определявшей субъективный опыт в терминах сознания, мышления, чувственного восприятия, и, с другой — синтез проблемы человеческого опыта и физических процессов эволюции мира.
Как не амбициозна уайтхедовская программа соединения философии и естествознания, единого описания всех форм существования — от объектов познания до функционирования последнего, — Уайтхед лучше многих других сознавал, что эволюция мира (химических элементов, космических объектов, жизни духа) не могла бы быть познана, если бы не менялось само познание. Эволюция, по Уайтхеду, это синтез становящегося и неизменного, потока и берегов.
Задачу философии Уайтхед видел в том, чтобы совместить перманентность и изменение, мыслить вещи как процессы, показать, как становящееся, возникающее формирует отдельные сущности, как рождаются и умирают индивидуальные тождества… Уайтхед убедительно продемонстрировал связь между философией отношения (ни один элемент природы не является перманентной основой изменяющихся отношений, каждый элемент обретает тождество из своих отношений с другими элементами) и философией инновационного становящегося. В процессе своего генезиса все сущее [включая познание] унифицирует многообразие мира, поскольку добавляет к этому многообразию некоторое дополнительное множество отношений. При сотворении каждой новой сущности «многое обретает единство и растет как единое целое».
По мнению Ильи Пригожина, Уайтхеда можно считать предтечей «самосогласованных» описаний типа философии будстрэпа в физике элементарных частиц, утверждающей универсальную взаимосвязанность всех частиц. Главное же, Уайтхеду принадлежит идея расширяющейся науки, способной в своей эволюции положить конец расколу между естествознанием и философией.
К философии жизни Ницше восходят многие идеи современной феноменологии, персонализма и экзистенциализма. «Зов Диониса» делает человека экзистирующим существом, выходящим за свои пределы. Ницше считал человеческое существование уникальным, человеческий опыт неповторимым. Самотворение было для него вершиной человеческого и основой сверхчеловеческого. Персональное начало, персональный выбор, свобода выбора, самоидентификация с определенным «жизненным миром», длительность как персональное время — эти и другие проблемы соединяют ницшеанство с Бергсоном, Хайдеггером, Ясперсом, Шестовым, Камю, философией жизни (Зиммель, Дильтей, Ортега-и-Гассет), эпистемологией и гносеологией современной науки (Кун, Полани, Фейерабенд, Лакатос), философией и культурологией Шпенглера, Лёвита, Дерриды, феноменологией Гуссерля…
Анри Бергсон, хотя его нельзя причислить к ницшеанцам, также полагал, что познавательный аппарат человека гораздо шире рационального постижения действительности: мир «истолковывают» интуиции человека, связанные с его влечениями, причем каждое влечение имеет свою «перспективу». Миру нельзя придать универсальный смысл, наблюдатель необходим, дабы придавать ему множественные смыслы. Без фантазии, мифа, иллюзий человечество не может обойтись. Сфера деятельности интеллекта ограничена мертвой материей. Для «жизненного порыва» творчества интеллекта недостаточно: жизнь, становление, воля к могуществу нуждаются в интуиции, озарении, бессознательном.
Под влиянием Ницше Макс Вебер в знаменитом докладе «Наука как призвание и профессия», произведшем огромное впечатление на целое поколение европейцев, назвал единственно «мужественной» и достойной перспективу жизни под знаком «войны богов», жизни — конкуренции, жизни — смены идей — противоборства абсолютов, — из которых нельзя избрать единственный, не оскорбив тем самым «всех остальных богов».
Гуссерль обязан Ницше идеей Lebenswelt, жизненного мира, описывающей хтонические, подземные истоки любых философских или научных идеализаций. Идя в направлении, противоположном Ницше, то есть строя философию как науку, Гуссерль пытался достичь окончательного обоснования мышления с помощью «первичных очевидностей», прежде всего самой жизни.

Если писать историю как историю культуры духа человеческого, то XX век должен получить имя Джойса — Гомера, Данте, Шекспира, Достоевского нашего времени. Элиот сравнивал его "Улисса" с "Войной и миром", но "Улисс" — это и "Одиссея", и "Божественная комедия", и "Гамлет", и "Братья Карамазовы" современности. Подобно тому как Джойс впитал человеческую культуру прошлого, так и культура XX века несет на себе отпечаток его гения. Не подозревая того, мы сегодня говорим, думаем, рефлексируем, фантазируем, мечтаем по Джойсу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
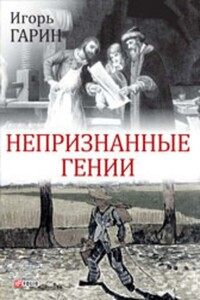
В своей новой книге «Непризнанные гении» Игорь Гарин рассказывает о нелегкой, часто трагической судьбе гениев, признание к которым пришло только после смерти или, в лучшем случае, в конце жизни. При этом автор подробно останавливается на вопросе о природе гениальности, анализируя многие из существующих на сегодня теорий, объясняющих эту самую гениальность, начиная с теории генетической предрасположенности и заканчивая теориями, объясняющими гениальность психическими или физиологическими отклонениями, например, наличием синдрома Морфана (он имелся у Паганини, Линкольна, де Голля), гипоманиакальной депрессии (Шуман, Хемингуэй, Рузвельт, Черчилль) или сексуальных девиаций (Чайковский, Уайльд, Кокто и др.)
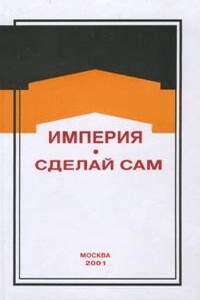
Автор, являющийся одним из руководителей Литературно-Философской группы «Бастион», рассматривает такого рода образования как центры кристаллизации при создании нового пассионарного суперэтноса, который создаст счастливую православную российскую Империю, где несогласных будут давить «во всем обществе снизу доверху», а «во властных и интеллектуальных структурах — не давить, а просто ампутировать».

Автор, кандидат исторических наук, на многочисленных примерах показывает, что империи в целом более устойчивые политические образования, нежели моноэтнические государства.
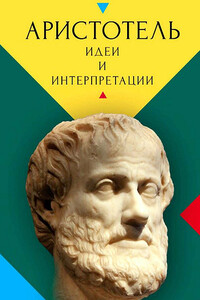
В книге публикуются результаты историко-философских исследований концепций Аристотеля и его последователей, а также комментированные переводы их сочинений. Показаны особенности усвоения, влияния и трансформации аристотелевских идей не только в ранний период развития европейской науки и культуры, но и в более поздние эпохи — Средние века и Новое время. Обсуждаются впервые переведенные на русский язык ранние биографии Аристотеля. Анализируются те теории аристотелевской натурфилософии, которые имеют отношение к человеку и его телу. Издание подготовлено при поддержке Российского научного фонда (РНФ), в рамках Проекта (№ 15-18-30005) «Наследие Аристотеля как конституирующий элемент европейской рациональности в исторической перспективе». Рецензенты: Член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Репина Л.П. Доктор философских наук Мамчур Е.А. Под общей редакцией М.С.
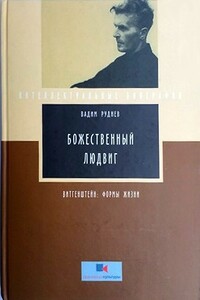
Книга представляет собой интеллектуальную биографию великого философа XX века. Это первая биография Витгенштейна, изданная на русском языке. Особенностью книги является то, что увлекательное изложение жизни Витгенштейна переплетается с интеллектуальными импровизациями автора (он назвал их «рассуждениями о формах жизни») на темы биографии Витгенштейна и его творчества, а также теоретическими экскурсами, посвященными основным произведениям великого австрийского философа. Для философов, логиков, филологов, семиотиков, лингвистов, для всех, кому дорого культурное наследие уходящего XX столетия.
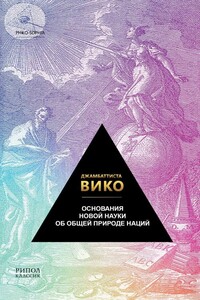
Вниманию читателя предлагается один из самых знаменитых и вместе с тем экзотических текстов европейского барокко – «Основания новой науки об общей природе наций» неаполитанского философа Джамбаттисты Вико (1668–1774). Создание «Новой науки» была поистине титанической попыткой Вико ответить на волновавший его современников вопрос о том, какие силы и законы – природные или сверхъестественные – приняли участие в возникновении на Земле человека и общества и продолжают определять судьбу человечества на протяжении разных исторических эпох.
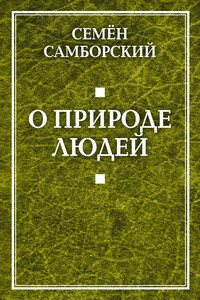
В этом сочинении, предназначенном для широкого круга читателей, – просто и доступно, насколько только это возможно, – изложены основополагающие знания и представления, небесполезные тем, кто сохранил интерес к пониманию того, кто мы, откуда и куда идём; по сути, к пониманию того, что происходит вокруг нас. В своей книге автор рассуждает о зарождении и развитии жизни и общества; развитии от материи к духовности. При этом весь процесс изложен как следствие взаимодействий противоборствующих сторон, – начиная с атомов и заканчивая государствами.