Нездешние вечера - [6]
Из него струился кровавый пламень,
И грубо было нацарапано слово: '
[1917]
?всбобт
415. ФАУСТИНА
Серебристым рыба махнула хвостом,
Звезда зажелтела в небе пустом,
О, Фаустина!
Все ближе маяк, темен и горд,
Все тише вода плещет об борт
Тянется тина...
Отбившийся сел на руль мотылек...
Как день свиданья от нас далек!
Тень Палатина!
Ветром запах резеды принесло.
В розовых брызгах мое весло.
О, Фаустина!
[1917]
416. УЧИТЕЛЬ
Разве по ристалищам бродят учители?
Разве не живут они в безмятежной обители?
(Голубой, голубой хитон!)
Хотите ли воскресить меня, хотите ли
Убить, уста, что покой похитили?
(И никто не знает, откуда он).
Мало ли прошло дней, много ли
С того, как его пальцы мои трогали?
(Голубой, голубой хитон!)
С каких пор мудрецы причесываются как щеголи?
В желтом сияньи передо мной не дорога ли?
(И никто не знает, откуда он).
Полированные приравняю ногти к ониксу,
Ах, с жемчужною этот ворот пронизью...
(Голубой, голубой хитон!)
Казалось, весь цирк сверху донизу
Навстречу новому вздрогнул Адонису.
(И никто не знает, откуда он).
Из Вифинии донеслось дыхание,
Ангельские прошелестели лобзания,
Разве теперь весеннее солнцестояние?
[1917]
417. ШАГИ
Твои шаги в затворенном саду
И голос горлицы загорной: "Я приду!"
Прямые гряды гиацинтов сладки!
Но новый рой уж ищет новой матки,
И режет свежую пастух дуду.
В пророческом кружится дух бреду
Кадилами священной лихорадки,
И шелестят в воздушном вихре схватки
Твои шаги.
Так верится в томительном аду,
Что на пороге прах пустынь найду!
Полы порфирные зеркально гладки...
Несут все радуги и все разгадки
Созревшему, прозрачному плоду
Твои шаги.
[1917]
418. МУЧЕНИК
Сумеречный, подозрительный час...
Двусмысленны все слова,
Круги плывут по воде!
Не святой ли это рассказ?
Отчего же так горит голова,
Чуя "быть беде!"
Варварское и нежное имя
Я не слыхал такого...
Оно пахнет медом и хлебом...
В великом Риме
Не видали такого святого
Под апостольским небом!
[1918]
419. РЫБА
Умильно сидеть возле
Учительной руки!
- Рыбачат на плоском озере
Еврейские рыбаки.
Ползут облака сн_е_гово.
- Хлеба-то взяли? Эй!
Над заштопанным неводом
Наклонился Андрей.
Читаем в затворенной комнате,
Сердце ждет чудес.
Вспомни, сынок, вспомни
Мелкий, песчаный лес.
Золотые полотнища спущены
(В сердце, в воде, в камыше?).
Чем рассудку темней и гуще,
Тем легче легкой душе.
Отчего в доме ветрено?
Отчего в ароматах соль?
Отчего, будто в час смертный,
Такая сладелая боль?
Ползут облака снегово...
По полотнищу вверх глянь
Играет серебряным неводом
Голый Отрок, глаза - лань.
Наклоняется, подымается, бегает,
Круглится отрочески бедро.
Рядом - солнце, от жара белое,
Златодонное звонкое ведро.
Поймай, поймай! Благовестия
Самой немой из рыб.
Брошусь сам в твои сети я,
Воду веретеном взрыв!
Белое, снеговое сияние
Обвевает важно и шутя.
Ты мне брат, возлюбленный и няня,
Божественное Дитя.
Спадает с глаз короста,
Метелкой ее отмести.
Неужели так детски просто
Душу свою спасти?
Все то же отцовское зало,
- Во сне ли, или грежу я?
Мне на волосы с неба упала
Золотая, рыбья чешуя.
[1918]
420. ГЕРМЕС
Водителем душ, Гермесом,
Ты перестал мне казаться.
Распростились с болотистым адом,
И стал ты юношей милым.
Сядем
Над желтым, вечерним Нилом.
Ныряет двурогий месяц
В сетке акаций.
Твои щеки нежно пушисты,
Не нагладиться вдосталь!
- Чистым - все чисто,
Помнишь, сказал Апостол?
В лугах заливных все темней.
Твой рот - вишня, я - воробей.
В твоих губах не эхо ли
На каждый поцелуй?
Все лодочки уехали,
Мой милый, не тоскуй.
Все лодочки уехали
Туда, далеко, вдаль!
Одежда нам помеха ли?
Ужаль, ужаль, ужаль!
Но отчего этот синий свет?
Отчего этот знак на лбу?
Маленькие у ног трещоткой раскрылись крылья.
Где ты? здесь ли? нет?
Ужаса
Связал меня узел,
Напало бессилье...
Снова дремлю в гробу...
Снова бледная лужица
(Выведи, выведи, водитель мой!),
Чахлый и томный лес...
(Ветер все лодки гонит домой)
Гермес, Гермес, Гермес!
[1918]
VI. СТИХИ ОБ ИТАЛИИ
Т. М. Персиц
421. ПЯТЬ
Веслом по-прежнему причаль!
Не в Остии ли фонари?
Какая чахлая печаль
В разливах розовой зари!
А память сердцу все: "Гори!"
Что ты, кормщик, смотришь с вышки?
Берег близок уж совсем.
Мы без карт и без систем
Все плывем без передышки.
Лишь предательские мышки
С обреченных прочь трирем.
Горит душа; горя, дрожит...
И ждет, что стукнет кто-то в дверь
И луч зеленый побежит,
Как и теперь, как и теперь...
А память шепчет: "Друг, поверь".
Лунный столб в воде дробится,
Пусто шарит по кустам...
Кто запекшимся устам
Из криницы даст напиться?
Пролетает грузно птица...
Мы увидимся лишь там!..
Я верю: день благословен!
Налей мне масла из лампад!
Какой молочный, сладкий плен!
О, мед несбывшихся услад!
А память мне: "Господень сад!"
Как болотисты равнины!
Вьется пенье вдалеке...
В вечной памяти реке
То поминки иль крестины?
Слышу руку Фаустины
В помертвелой я руке...
Господень сад, великий Рим,
К тебе вернусь опять!
К тебе мы, странники, горим,
Горим себя распять!..
А эхо шепчет: "Пять!"
[1920]
422. ОЗЕРО НЕМИ
Занереидил ирис Неми,
Смарагдным градом прянет рай,
Но о надежде, не измене,
Зелено-серый серп, играй.

Повесть "Крылья" стала для поэта, прозаика и переводчика Михаила Кузмина дебютом, сразу же обрела скандальную известность и до сих пор является едва ли не единственным классическим текстом русской литературы на тему гомосексуальной любви."Крылья" — "чудесные", по мнению поэта Александра Блока, некоторые сочли "отвратительной", "тошнотворной" и "патологической порнографией". За последнее десятилетие "Крылья" издаются всего лишь в третий раз. Первые издания разошлись мгновенно.
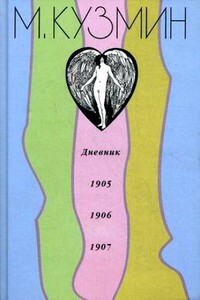
Дневник Михаила Алексеевича Кузмина принадлежит к числу тех явлений в истории русской культуры, о которых долгое время складывались легенды и о которых даже сейчас мы знаем далеко не всё. Многие современники автора слышали чтение разных фрагментов и восхищались услышанным (но бывало, что и негодовали). После того как дневник был куплен Гослитмузеем, на долгие годы он оказался практически выведен из обращения, хотя формально никогда не находился в архивном «спецхране», и немногие допущенные к чтению исследователи почти никогда не могли представить себе текст во всей его целостности.Первая полная публикация сохранившегося в РГАЛИ текста позволяет не только проникнуть в смысловую структуру произведений писателя, выявить круг его художественных и частных интересов, но и в известной степени дополняет наши представления об облике эпохи.

Критическая проза М. Кузмина еще нуждается во внимательном рассмотрении и комментировании, включающем соотнесенность с контекстом всего творчества Кузмина и контекстом литературной жизни 1910 – 1920-х гг. В статьях еще более отчетливо, чем в поэзии, отразилось решительное намерение Кузмина стоять в стороне от литературных споров, не отдавая никакой дани групповым пристрастиям. Выдаваемый им за своего рода направление «эмоционализм» сам по себе является вызовом как по отношению к «большому стилю» символистов, так и к «формальному подходу».

Критическая проза М. Кузмина еще нуждается во внимательном рассмотрении и комментировании, включающем соотнесенность с контекстом всего творчества Кузмина и контекстом литературной жизни 1910 – 1920-х гг. В статьях еще более отчетливо, чем в поэзии, отразилось решительное намерение Кузмина стоять в стороне от литературных споров, не отдавая никакой дани групповым пристрастиям. Выдаваемый им за своего рода направление «эмоционализм» сам по себе является вызовом как по отношению к «большому стилю» символистов, так и к «формальному подходу».

Критическая проза М. Кузмина еще нуждается во внимательном рассмотрении и комментировании, включающем соотнесенность с контекстом всего творчества Кузмина и контекстом литературной жизни 1910 – 1920-х гг. В статьях еще более отчетливо, чем в поэзии, отразилось решительное намерение Кузмина стоять в стороне от литературных споров, не отдавая никакой дани групповым пристрастиям. Выдаваемый им за своего рода направление «эмоционализм» сам по себе является вызовом как по отношению к «большому стилю» символистов, так и к «формальному подходу».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.