Нездешние вечера - [3]
(второй)
Тягостен вечер в июле,
Млеет морская медь...
Красное дно кастрюли,
Полно тебе блестеть!
Спряталась паучиха.
Облако складки мнет.
Песок золотится тихо,
Словно застывший мед.
Винно-лиловые грозди
Спустит с небес лоза.
В выси мохнатые гвозди
Нам просверлят глаза.
Густо алеют губы,
Целуют, что овода.
Хриплы пастушьи трубы,
Блеют вразброд стада.
Скатилась звезда лилово...
В траве стрекозиный гром.
Все для любви готово,
Грузно качнулся паром.
1916
401. АНТИЧНАЯ ПЕЧАЛЬ
Смолистый запах загородью тесен,
В заливе сгинул зеленистый рог,
И так задумчиво тяжеловесен
В морские норы нереид нырок!
Назойливо сладелая фиалка
Свой запах тычет, как слепец костыль,
И волны полые лениво-валко
Переливают в пустоту бутыль.
Чернильных рощ в лакричном небе ровно
Ряды унылые во сне задумались.
Сова в дупле протяжно воет, словно
Взгрустнулось грекам о чухонском Юмале.
1917
402. МОРЕХОД НА СУШЕ
Курятся, крутят рощ отроги,
Синеются в сияньи дня,
И стрелы летнего огня
Так упоительно не строги!
Прозрачно розовеют пятки
Проворных нимф на небесах.
В курчавых скрытые лесах
Кукушки заиграли в прятки.
И только снится иногда
Шатанье накрененных палуб:
Ведь путевых не надо жалоб,
Коль суша под ногой тверда.
1917
403. БЕЛАЯ НОЧЬ
Загоризонтное светило
И звуков звучное отсутствие
Зеркальной зеленью пронзило
Остекленелое предчувствие.
И дремлет медленная воля
Секунды навсегда отстукала,
Небесно-палевое поле
Подземного приемник купола.
Глядит, невидящее око,
В стоячем и прозрачном мреяньи.
И только за небом, высоко,
Дрожит эфирной жизни веянье.
1917
404. ПЕРСИДСКИЙ ВЕЧЕР
Смотрю на зимние горы я:
Как простые столы, они просты.
Разостлались ало-золотоперые
По небу заревые хвосты.
Взлетыш стада фазаньего,
Хорасанских, шахских охот!
Бог дает - примем же дань Его,
Как принимаем и день забот.
Не плачь о тленном величии,
Ширь глаза на шелковый блеск.
Все трещотки и трубы птичьи
Перецокает соловьиный треск!
1917
405. ХОДОВЕЦКИЙ
Наверно, нежный Ходовецкий
Гравировал мои мечты:
И этот сад полунемецкий,
И сельский дом, немного детский,
И барбарисные кусты.
Пролился дождь; воздушны мысли.
Из окон рокот ровных гамм.
Душа стремится (вдаль ли? ввысь ли?),
А капли на листах повисли,
И по карнизу птичий гам.
Гроза стихает за холмами,
Ей отвечает в роще рог,
И дядя с круглыми очками
Уж наклоняет над цветами
В цветах невиданных шлафрок.
И радуга, и мост, и всадник,
Все видится мне без конца:
Как блещет мокрый палисадник,
Как ловит на лугу лошадник
Отбившегося жеребца.
Кто приезжает? кто отбудет?
Но мальчик вышел на крыльцо.
Об ужине он позабудет,
А теплый ветер долго будет
Ласкать открытое лицо.
1916
III. ДНИ И ЛИЦА
406. ПУШКИН
Он жив! у всех душа нетленна,
Но он особенно живет!
Благоговейно и блаженно
Вкушаем вечной жизни мед.
Пленительны и полнозвучны,
Текут родимые слова...
Как наши выдумки докучны,
И новизна как не нова!
Но в совершенства хладный камень
Его черты нельзя замкнуть:
Бежит, горя, летучий пламень,
Взволнованно вздымая грудь.
Он - жрец, и он веселый малый,
Пророк и страстный человек,
Но в смене чувства небывалой
К одной черте направлен бег.
Москва и лик Петра победный,
Деревня, Моцарт и Жуан,
И мрачный Герман, Всадник Медный
И наше солнце, наш туман!
Романтик, классик, старый, новый?
Он - Пушкин, и бессмертен он!
К чему же школьные оковы
Тому, кто сам себе закон?
Из стран, откуда нет возврата,
Через года он бросил мост,
И если в нем признаем брата,
Он не обидится: он - прост
И он живой. Живая шутка
Живит арапские уста,
И смех, и звон, и прибаутка
Влекут в бывалые места.
Так полон голос милой жизни,
Такою прелестью живим,
Что слышим мы в печальной тризне
Дыханье светлых именин.
1921
407. ГЕТЕ
Я не брошу метафоре:
"Ты - выдумка дикаря-патагонца",
Когда на памяти, в придворном шлафоре
По Веймару разгуливало солнце.
Лучи свои спрятало в лысину
И негромко назвалось Geheimrath'ом {*},
Но ведь из сердца не выкинуть,
Что он был лучезарным и великим братом.
Кому же и быть тайным советником,
Как не старому Вольфгангу Гете?
Спрятавшись за орешником,
На него почтительно указывают дети.
Конечно, слабость: старческий розариум,
Под семидесятилетним плащом Лизетта,
Но все настоящее в немецкой жизни
лишь комментариум,
Может быть, к одной только строке поэта.
1916
{* Тайным советником (нем.). - Ред.}
408. ЛЕРМОНТОВУ
С одной мечтой в упрямом взоре,
На Божьем свете не жилец,
Ты сам - и Демон, и Печорин,
И беглый, горестный чернец.
Ты с малых лет стоял у двери,
Твердя: "Нет, нет, я ухожу",
Стремясь и к первобытной вере,
И к романтичному ножу.
К земле и людям равнодушен,
Привязан к выбранной судьбе,
Одной тоске своей послушен,
Ты миру чужд, и мир - тебе.
Ты страсть мечтал необычайной,
Но, ах, как прост о ней рассказ!
Пленился ты Кавказа тайной,
Могилой стал тебе Кавказ.
И Божьи радости мелькнули,
Как сон, как снежная мятель...
Ты выбираешь - что? две пули
Да пошловатую дуэль.
Поклонник демонского жара,
Ты детский вызов слал Творцу.
Россия, милая Тамара,
Не верь печальному певцу.
В лазури бледной он узнает,
Что был лишь начат долгий путь.
Ведь часто и дитя кусает
Кормящую его же грудь.

Повесть "Крылья" стала для поэта, прозаика и переводчика Михаила Кузмина дебютом, сразу же обрела скандальную известность и до сих пор является едва ли не единственным классическим текстом русской литературы на тему гомосексуальной любви."Крылья" — "чудесные", по мнению поэта Александра Блока, некоторые сочли "отвратительной", "тошнотворной" и "патологической порнографией". За последнее десятилетие "Крылья" издаются всего лишь в третий раз. Первые издания разошлись мгновенно.
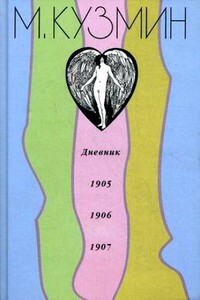
Дневник Михаила Алексеевича Кузмина принадлежит к числу тех явлений в истории русской культуры, о которых долгое время складывались легенды и о которых даже сейчас мы знаем далеко не всё. Многие современники автора слышали чтение разных фрагментов и восхищались услышанным (но бывало, что и негодовали). После того как дневник был куплен Гослитмузеем, на долгие годы он оказался практически выведен из обращения, хотя формально никогда не находился в архивном «спецхране», и немногие допущенные к чтению исследователи почти никогда не могли представить себе текст во всей его целостности.Первая полная публикация сохранившегося в РГАЛИ текста позволяет не только проникнуть в смысловую структуру произведений писателя, выявить круг его художественных и частных интересов, но и в известной степени дополняет наши представления об облике эпохи.

Критическая проза М. Кузмина еще нуждается во внимательном рассмотрении и комментировании, включающем соотнесенность с контекстом всего творчества Кузмина и контекстом литературной жизни 1910 – 1920-х гг. В статьях еще более отчетливо, чем в поэзии, отразилось решительное намерение Кузмина стоять в стороне от литературных споров, не отдавая никакой дани групповым пристрастиям. Выдаваемый им за своего рода направление «эмоционализм» сам по себе является вызовом как по отношению к «большому стилю» символистов, так и к «формальному подходу».

Критическая проза М. Кузмина еще нуждается во внимательном рассмотрении и комментировании, включающем соотнесенность с контекстом всего творчества Кузмина и контекстом литературной жизни 1910 – 1920-х гг. В статьях еще более отчетливо, чем в поэзии, отразилось решительное намерение Кузмина стоять в стороне от литературных споров, не отдавая никакой дани групповым пристрастиям. Выдаваемый им за своего рода направление «эмоционализм» сам по себе является вызовом как по отношению к «большому стилю» символистов, так и к «формальному подходу».

Критическая проза М. Кузмина еще нуждается во внимательном рассмотрении и комментировании, включающем соотнесенность с контекстом всего творчества Кузмина и контекстом литературной жизни 1910 – 1920-х гг. В статьях еще более отчетливо, чем в поэзии, отразилось решительное намерение Кузмина стоять в стороне от литературных споров, не отдавая никакой дани групповым пристрастиям. Выдаваемый им за своего рода направление «эмоционализм» сам по себе является вызовом как по отношению к «большому стилю» символистов, так и к «формальному подходу».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.