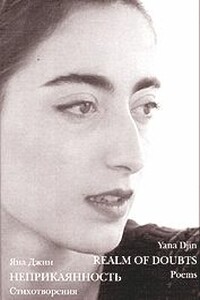О, ностальгия по неведомым частям,
по всё ещё не наступившим дням,
по разбежавшимся тропам,
по тишиной шипящими путям,
по неслучившимся удачам,
по «всё могло бы ведь иначе…»
и по чужим смертям, последним вздохам,
по поцелуям, по тому, что плохо.
И пусть не веру ностальгия порождает в бога, —
на помышление о нём наводит понемногу.
Но далеко от вод врастая в землю,
в неё роняя одинокую слезу,
когда-нибудь, своей печали внемля,
в прибрежную сбежишь ты полосу.
И там, у вод, у океана постоянства,
который всё на свете время заплеснул,
узреешь неподвижность: чайка лишь из чванства
сплошную может вдруг прервать голубизну…
Сплошное время тут, не знающее хроники.
Крестами, арками и минаретами не тронутое.
Молчанье там — присутствие молчания,
не онемение от горя и отчаянья.
Там устрицы молчат из бессловесности,
из слова всякого извечной неуместности…
В этой синей воде отражается белое небо.
И на нём облака белый саван соткали из снега
для тебя, но тебе умирать — как вздыхать.
И не знаешь тут чувства стыда,
что жила бесполезно, не оставив следа.
Там, где эта вода, с каждой новой волной —
что случалось всегда, то случается вновь.
Там ничто никогда не меняется, —
ни молиться не стоит, ни каяться:
даже в самые тихие дни
те же устрицы шепчут: «Распни!»
Не надейся, не жди:
те же страхи тебя впереди
поджидают — и в грохоте грома,
в какафонии грубой погрома
тонет песня Авессаллома.
О, несчастный Авессалом!
О, законный наследник дома!
О, изгнанник, — о чём он, о чём?
Нагромождение деталей.
Любая вещь напоминает,
что память зла: не забывает
того, с чем ты уже рассталась.
Как волна, она неразборчива —
и выносит к тебе среди прочего
то, чему привелось случиться
чтобы сразу же и забыться…
Но деталей нагромождение,
размывая волю к движению,
превращает существование
в материал для воспоминания.
И в тебе возникает мелодия
то ли новая, то ли нет,
то ли слышанная во сне.
А зажмуришься — вновь темнота:
то ли нет, то ли да.
Темнота, темнота, как предрёк,
невесёлый библейский пророк.
Темнота, перестань же стараться —
ты тому уподобилась старцу,
что встречает уже поезда
те, которых ты вовсе не ждал;
рыбе той, что собралась клевать
крюк, которому нечего дать.
В старца, в старца ты превращаешься:
ты устала — без слёз, без восторгов
на волнах равнодушно качаешься,
как с заглохшим мотором моторка.
И потом тебя к кромке сиреневой
отнесёт равнодушной волной,
А за кромкою — остров. Сирены
зазовут туда песнею той,
что поют вековечно они —
Anno Domini, гиблые дни…
В туман, пропитанный стерильной влагой,
мои пустые, выплаканные глаза
глядят.
Из города я этого бродягой —
когда сошла последняя слеза —
ушла.
Я в этом городе любила
так сильно, что теперь мне жаль
того, кому любить…
Я исходила
всю землю в ширь её и даль, —
и пусть я этих вод, разлива постоянства,
не видела-не находила,
странствуя,
своё существованье я размерила
до вздоха до последнего, поверила,
что мне далась наука равнодушия.
Но я споткнулась. Всё теперь порушилось.
Теперь я в память превратилась. В символ.
В икону русскую. Во взгляд за кружевами.
Во Время, под цимбалы херувимов
плывущее. Теперь уже следами
своими я отягчена. Следами.
…Но для тоски уж не осталось силы.
Время
былых печалей
не признало бремя:
в не-сожаления оно аллею
свернуло и спокойно, ровно тлеет.
Существованье в нашу эру
не признаёт слезу и веру —
мы все порожним взглядом наблюдаем
за тем, как в одиночку умираем.
Но убивает время, а не место.
Нигде теперь не убоишься жеста,
который прежде обещал тебе спасение:
колёс вагонных зазывающее замедление…
Теперь ты, сморщив лоб, назад отступишь
— спасаясь словно от внезапного дождя —
под козырёк платформы; не погубишь
себя.
А вслед за этим пропыхтят
товарняки другие, из другой эпохи, —
с приговорёнными к погибели солдатами, —
как ты, в судьбе своей не виноватыми…
Но ты не удостоишь их и вздоха.
Жизнь. Пропаганда мелочей;
их забивание
сквозь повторенье дней, ночей
в незабывание.
Жестокость знания-но-недопонимания,
полу-блаженство полу-узнавания.
Последняя надежда не уйти,
последний страх пред рвом в конце пути,
последняя попытка устоять,
прощальный росчерк и прощальная печать,
и самая последняя из просьб —
сожги меня дотла, сожги и брось…
Но помни: пепел мой тебе приснится
нетающей снежинкой на реснице…
Представь другое: нас теченьем понесло
куда-то врозь, но мы, орудуя веслом,
сопротивляемся воде и не сдаёмся,
пока, как стрелки часовые, не сольёмся
в два спаренных весла. И вороны
над нами разлетятся в стороны.
Но лучше вспомни то, что быть пришло:
за белым кружевом — глаза, чело,
лицо средь лиц и первое объятие…
А уходя — сотри следы на водной глади.
Исчезновенье дней доказывает, кстати,
что времени не существует; боль одна
способна двигаться и длиться, что она
и пребывает вместо времени. Бояться
его нельзя, и глупо стосковаться
по прошлому: ему — ничто цена.
Исчезновенье дней бесплодно: время —
как в землю неопущенное семя;
и смехотворно, как во время оно
смешною оказалась жизнь Нерона,
которому сжиганьем римских зданий
не удалось остановить существованье.
Но как бы ты ни жил, — обычно или странно, —
ты оказалась жертвою обмана.