Негативная диалектика - [2]
Автор сознает, какое отрицательное отношение вызовет его негативная диалектика. Будучи далек от любых хитростей и ухищрений разума (Rancune), он обращается ко всем сторонникам негативной диалектики (как по ту, так и по эту сторону), ко всем тем, кто скажет, "я всегда это подразумевал", но, начиная с сегодняшнего дня, заставят автора взвалить всю вину на себя.
Франкфурт, лето 1966 г.
Введение
О возможности философии
Философия, которая с давних пор представляется преодоленной, снятой, продолжает жить, потому что момент ее воплощения в действительность оказался упущенным, непонятым, невостребованным. Приговор гласит: философия только объясняет мир, но, отрекаясь от реальности, калечит и разрушает себя. В тот самый момент, когда попытки изменить мир терпят крах, философия превращается в бессилие разума. Однако философия вовсе не гарантирует и прочности противоположной позиции, следуя которой ее теорию (как таковую - теорию анахронизма, в чем философию уличали и прежде, и теперь) можно конкретно изобличать и обвинять. Наверное, интерпретациям вообще не дано достичь того, что предвещает практический переход. Момент, от которого зависит критика теории, нельзя пролонгировать теоретически. Если практика откладывается, переносится в далекое будущее, онаужене выступает в качестве инстанции, опротестовывающей самодовольную спекуляцию; начиная с этого момента, практика - это, скорее, предлог, используя который критическую мысль задушат или отбросят как пустую самонадеянность, хотя она так нужна практике, преобразующей мир. Философия, после того как нарушила свои обещания воплотиться в действительность или непосредственно предшествовать ее созданию, была вынуждена безоглядно критиковать себя. То, что когда-то воспринималось в философии как просто далекое от наивности, противоположное видимости смысла и направленному вовне познанию, сегодня объективно превратилось в ту самую наивность, которуюужелет сто пятьдесят тому назад почувствовал Гегель в том восторге и наслаждении, который испытывали перед спекуляцией бедные студенты-неудачники. Интровертный архитектор мысли живет на обратной стороне Луны, ее давноужеосвоили и присвоили интровертные инженеры. В условиях безгранично расширяющегося общества и прогресса позитивного научного познания понятийные оболочки, в которые, согласно философской традиции, нужно поместить целое (и разместитьеготам), напоминают реликты натурального хозяйства в индустриальном капитализме. Между тем несоответствие власти идуха,деградировавшее до уровня внешнего, столь велико, что в рамках такой несоразмерности все попытки (инспирированные самим понятием духа) постичь нечто превосходящее действительность, кажутся бесполезными, разрушаются. Воля к такому разрушению свидетельствует о претензии на власть, эту претензию опровергает все, что с необходимостью подлежит познанию. Изобретение конкретных наук, сведение философии к одной из них и есть самое яркое изображение исторической судьбы философии. Если Кант, говоря его словами, освободил "академическое", ученически школьное понятие философии, возвысив его до мирового ее понятия[0-1], то по принуждению или под давлением философия снова деградироваладоуровня школьного понятия. Там, где философия смешивает ученическое понятие о себе с мировым, ее претензии вызывают насмешку. Гегель, вопреки учению об абсолютномдухе,к которому он относил философию, видел в ней просто момент действительности, род деятельности, основанной на разделении труда, и тем самым ограничивал философию. Отсюда присущая с тех пор философии ограниченность, диспропорция по отношению к реальности. Правда, эта диспропорция возрастает тем больше, чем основательнее философия забывает гегелевские ограничения и познает реальность как чужое (Fremde) по отношению к себе; чем реже вспоминает о своем собственном положении в системе целого, которое монополизует в качестве своего объекта, вместо того чтобы познавать, как сильно философия зависит в своем внутреннем целеполагании, в своей имманентной истине от этого целого. Только для изжившей подобную наивность философии дальнейшее движение мысли имеет маломальскую ценность. Критическая саморефлексия не может, тем не менее, не присутствовать в высших достижениях истории философии. У истории философии следовало бы спросить: а возможно ли и в каких формах еще возможно существование философии после того, как низвергнута гегелевская система (вопрос, аналогичный тому, который задавал Кант, спрашивая о перспективах метафизики после критики рационализма). Если учение Гегеля о диалектике представляет собой неудавшуюся, не доведенную до конца попытку, не уступая его целостности, показать при помощи понятия эту целостность как гетерогенное, то, отдавая должное диалектике, можно представить себе масштабы крушения гегелевского проекта.
Диалектика - это не точка зрения
Никакая теория не минует рынка: любая предлагает себя как возможное среди конкурирующих точек зрения и мнений, все предлагаются на выбор, все проглатывается. Между тем нет гарантии, что мысль может укрыться, спастись от внушающего страх окрика; существует всего лишь вероятность, что самовнушение "моя теория избежит такой судьбы" не превратится в самовосхваление. Поэтому диалектика не обязана молчать в ответ на подобные упреки и связанные с ними обвинения в поверхностности, - излюбленный аргумент метода, неожиданно свалившегося надиалектику.
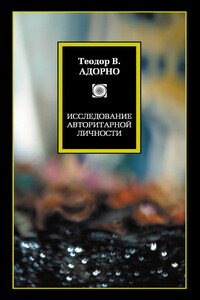
Что такое авторитарная личность?Почему авторитарный лидер быстро подчиняет себе окружающих и легко ими манипулирует?Чем отличается авторитарная личность от социопатической, хотя и имеет с ней много общего?Почему именно в XX веке появилось столько диктаторов, установивших бесчеловечные, тоталитарные режимы при поддержке миллионов людей?На эти и многие другие вопросы отвечает Теодор В. Адорно в своем знаменитом произведении, ставшем классикой философской и социологической мысли! Перевод: М. Попова, М. Кондратенко.
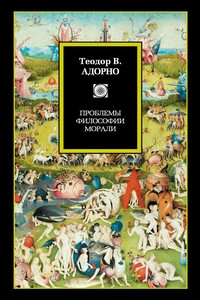
В основу этой книги легли семнадцать лекций, прочитанных Теодором В. Адорно в 1963 году и в начале 1990-х восстановленных по магнитофонным записям.В этих лекциях, парадоксальным образом изменивших европейские представления о философии морали, немецкий ученый размышляет об отношении морали и личной свободы, закона и религии и решает важнейшие проблемы современной философской науки.
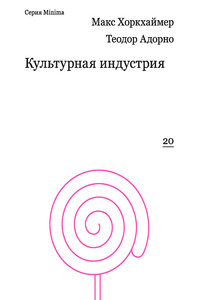
«Культурная индустрия может похвастаться тем, что ей удалось без проволочек осуществить никогда прежде толком не издававшийся перевод искусства в сферу потребления, более того, возвести это потребление в ранг закономерности, освободить развлечение от сопровождавшего его навязчивого флера наивности и улучшить рецептуру производимой продукции. Чем более всеохватывающей становилась эта индустрия, чем жестче она принуждала любого отдельно стоящего или вступить в экономическую игру, или признать свою окончательную несостоятельность, тем более утонченными и возвышенными становились ее приемы, пока у нее не вышло скрестить между собой Бетховена с Казино де Пари.

Данное издание выпущено в рамках программы Центрально-Европейского Университета «Translation Project» при поддержке Центра по развитию издательской деятельности (OSI-Budapest) и института «Открытое общество. Фонд Содействия» (OSIAF-Moscow) Существует два варианта перевода использованного в оформлении обложки средневекового латинского изречения. Буквальный: сеятель Арепо держит колесо в работе (крутящимся), и переносный: сеятель Арепо умеряет трудом превратности судьбы. Для Веберна эта формульная фраза являлась символом предельной творческой ясности, лаконичности и наглядности (FaBlichkeit), к которым он стремился и в своих произведениях.

Впервые на русском языке выходит книга выдающегося немецкого мыслителя XX века Теодора Адорно (1903–1969), написанная им в эмиграции во время Второй мировой войны и в первые годы после ее окончания. Озаглавленная по аналогии с «Большой этикой» («Magna moralia») Аристотеля, эта книга представляет собой отнюдь не систематический философский труд, а коллекцию острокритических фрагментов, как содержание, так и форма которых отражают неутешительный взгляд Адорно на позднекапиталистическое общество, в котором человеческий опыт дробится, рассыпается и теряет всякие ориентиры.
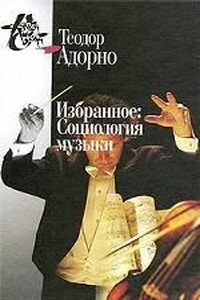
В книге публикуются произведения одного из создателей социологии музыки Теодора В. Адорно (1902-1969), крупного немецкого философа и социолога, многие годы проведшего в эмиграции в Америке ("Введение в социологию музыки. Двенадцать теоретических лекций", "Антон фон Веберн", "Музыкальные моменты"). Выдающийся музыкальный критик, чутко прислушивавшийся к становлению музыки новейшего времени, музыки XX века, сказавший весомое и новое слово о путях ее развития, ее прозрений и оправданности перед лицом трагической эпохи, Адорно предугадывает и опасности, заложенные в ее глубинах, в ее поисках выхода за пределы возможного… Советами Теодора Адорно пользовался Томас Манн, создавая "книгу боли", трагический роман "Доктор Фаустус".Том включает также четыре статьи первого российского исследователя творчества Адорно, исследователя глубокого и тонкого, – Александра Викторовича Михайлова (1938-1995), считавшего Адорно "музыкальным критиком необыкновенных, грандиозных масштабов".Книга интересна и доступна не только специалистам, но и широкому кругу читателей, интересующихся проблемами современной европейской культуры.(c) С.Я.

А. Ф. Лосев "Античный космос и современная наука"Исходник электронной версии:А.Ф.Лосев - [Соч. в 9-и томах, т.1] Бытие - Имя - Космос. Издательство «Мысль». Москва 1993 (сохранено только предисловие, работа "Античный космос и современная наука", примечания и комментарии, связанные с предисловием и означенной работой). [Изображение, использованное в обложке и как иллюстрация в начале текста "Античного космоса..." не имеет отношения к изданию 1993 г. Как очевидно из самого изображения это фотография первого издания книги с дарственной надписью Лосева Шпету].

К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812 – 2012)Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842 – 1918). Этот перевод издавался дважды:1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах – по числу книг в произведении);1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах – по числу частей в произведении).Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация – своя на каждую книгу)

В настоящее время Мишель Фуко является одним из наиболее цитируемых авторов в области современной философии и теории культуры. В 90-е годы в России были опубликованы практически все основные произведения этого автора. Однако отечественному читателю остается практически неизвестной деятельность Фуко-политика, нашедшая свое отражение в многочисленных статьях и интервью.Среди тем, затронутых Фуко: проблема связи между знанием и властью, изменение механизмов функционирования власти в современных обществах, роль и статус интеллектуала, судьба основных политических идеологий XX столетия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.