Недуг бытия (Хроника дней Евгения Баратынского) - [113]
Падали липкие крупные хлопья, и ему думалось, что его медленные метанья по опустелым московским улицам сродни монотонному мельтешенью этих белых вялых клоков, что жизнь кивает, удаляясь, что почти не слышны уже за этим белым паденьем ее голоса, и непоправимо блекнут ее краски, и непонятно движенье черных карет и темных фигур с глазами, как бы пятящимися под его пристальным и неподвижным взглядом.
И нечего было сказать дома тихому ангелу Настеньке, и нечему было учить растущих и тоже начинающих искать чего-то детей. И если бы выпало вдруг расстаться с семьей навечно, — ничего, кроме хозяйственных распоряжений, кажется, не мог бы он завещать своим ближним и потомкам своим.
Перо с исщепленной бородкой вычерчивало профиль красавицы с томно заведенными очами и раздраженно царапало строчки эпиграммы на престарелую кокетку.
В средине января взялись морозы. Сутулое небо поднялось, помолодело, сугробы засверкали золотыми искрами, зарябились сочной синевой вмятин и щербин. Сороки весело расклевывали семечки березы, склоненной в позе бедной просительницы; черные хвосты трепетали на снегу, как клавиши. Почуяв упорный взгляд, старая сорока недовольно вскрикнула и косолапыми прыжками поскакала прочь; за нею снялись другие. Он засмеялся и открыл форточку. Ветер слабо повеял весенней водой, отпотевающими деревами; голубое пятно протаяло в рыхлой вышине. Он сел за стол и вытянул из папки набросок "Осени", начатой еще в сентябре.
"Это нравится Левушке: "Похоже на Пушкина". Милый! Но продолженье…"
Он отложил перо и подошел к окну. Небо мглилось, старилось. Голубой кружок медленно затягивался сизою пленкой — как глаз подстреленной птицы.
Он вернулся к столу и вновь погрузился в строки об осени. Он любил откладывать наспех набросанные или не давшиеся сразу стихи, чтобы потом, иногда очень не скоро, как бы ненароком встретиться с ними. Часто они поражали его несогласьем с его нынешним настроением — он спорил с собою, вычеркивал целые строфы, иногда переписывал наново все стихотворение. Но сегодня, беседуя с собою, он удовлетворенно кивал стихам: спорить было не с чем, а править тяжелые обороты не хотелось: с годами все более ценил в себе эту пожилую, отзывающую славным державинским старчеством, тяжеловесность.
— Но как это получилось? — спросил он уже вслух, почти с испугом, вперяясь в разгонисто, без помарок начертавшиеся строки. — Как написалось, однако… Да, некого усадить за пиршественный стол. Не с кем разделить чашу дружества.
— Нет! — Он откинулся в кресле. — Опять могила! Есть друзья: Путята, князь, Пушкин…
Он азартно наклонился над тетрадью.
— Пере… перебелить, Пере… пере-светлить… Ах, как топочет Машенька! И Левушка топает. Сюда… Извини, милый, — не пущу. Не пу-щу!
Раздался испуганный вскрик Настасьи Львовны; он вскочил с кресла, в тревоге бросился к дверям.
Левушка, бледный, зареванный, переминался с ноги на ногу и смотрел отчаянно, словно бы укоризненно даже.
— Что? С мамой? Да го-во-ри же! — закричал он.
— Пушкин убит, — шепнул Левушка.
Резкий воздух петербургской весны взбадривал и даже целил: отпустило сердце, унялись боли в темени и затылке.
И ничто не поблекло, не выветрилось: ни студеное блистанье Зимнего, ни подмигивающая строгость вечернего Невского, ни пленительная вонь простецких кухмистерских.
Его не забыли здесь — напротив, принимали как признанную величину и с лестным вниманьем лорнировали в гостиных и театрах.
Карамзины не хотели отпускать ни на шаг. Некогда чинный их дом стал настоящим салоном, где в продолженье двух часов сменялось не менее двадцати человек. Острил и мрачно молчал Вяземский, встретивший его совершенно по-родственному. Плетнев, важный, обильно поседевший, вскинулся при его появленьи с кресел, и его желтое, лежалое лицо с брюзгливыми складками у рта дрогнуло беспомощно и радостно.
— А я, брат, на шаг от чахотки был, — пробормотал он, словно оправдываясь в чем-то перед старинным товарищем. — Весь этот год, как Пушкин наш умер… Хорошо: вновь ты с нами, у нас! — Оскорбленно и обиженно оттянулась нижняя, по-мужицки грубая губа. — Так называемое новое поколение со всею дерзостью бесстыдства отказывает предшественникам своим во всяком достоинстве. Надобно доказать им, на что способны мы, старые честные солдаты!
— Надобно, надобно, — рассеянно улыбаясь, соглашался он.
Дородный, кротко веселый Жуковский в белых форменных панталонах, неприлично обтягивающих его чресла, прослезился и обнял, плотно прильнув щекою, холодной и влажной, как запотевший мрамор.
Взбалмошная и грациозная Софи Карамзина, куря тонкую пахитоску, разливала чай из огромного самовара и, бойко постреливая черными любознательными глазами, занимала гостей пересказываньем нового романа Радклиф. Всех она сумела развеселить и взбудоражить — угрюм оставался лишь маленький смуглый офицер в гусарском ментике.

— Привели, барин! Двое дворовых в засаленных треуголках, с алебардами в руках истово вытянулись по сторонам низенькой двери; двое других, одетых в мундиры, втолкнули рыжего мужика с безумно остановившимися голубыми глазами. Барин, облаченный в лиловую мантию, встал из кресел, поправил привязанную прусскую косу и поднял золоченый жезл. Суд начался.
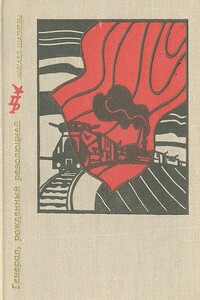
Повесть "Генерал, рожденный революцией" рассказывает читателю об Александре Федоровиче Мясникове (Мясникяне), руководителе минских большевиков в дни Октябрьской революции, способности которого раскрылись с особенной силой и яркостью в обстановке революционной бури.
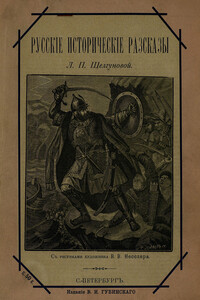
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Повесть приморского литератора Владимира Щербака, написанная на основе реальных событий, посвящена тинейджерам начала XX века. С её героями случается множество приключений - весёлых, грустных, порою трагикомических. Ещё бы: ведь действие повести происходит в экзотическом Приморском крае, к тому же на Русском острове, во время гражданской войны. Мальчишки и девчонки, гимназисты, начитавшиеся сказок и мифов, живут в выдуманном мире, который причудливым образом переплетается с реальным. Неожиданный финал повести напоминает о вещих центуриях Мишеля Нострадамуса.

Одна из повестей («Заложники»), вошедшая в новую книгу литовского прозаика Альгирдаса Поцюса, — историческая. В ней воссоздаются события конца XIV — начала XV веков, когда Западная Литва оказалась во власти ордена крестоносцев. В двух других повестях и рассказах осмысливаются проблемы послевоенной Литвы, сложной, неспокойной, а также литовской деревни 70-х годов.

Италия — не то, чем она кажется. Её новейшая история полна неожиданных загадок. Что Джузеппе Гарибальди делал в Таганроге? Какое отношение Бенито Муссолини имеет к расписанию поездов? Почему Сильвио Берлускони похож на пылесос? Сколько комиссаров Каттани было в реальности? И зачем дон Корлеоне пытался уронить Пизанскую башню? Трагикомический детектив, который написала сама жизнь. Книга, от которой невозможно отказаться.

«Юрий Владимирович Давыдов родился в 1924 году в Москве.Участник Великой Отечественной войны. Узник сталинских лагерей. Автор романов, повестей и очерков на исторические темы. Среди них — „Глухая пора листопада“, „Судьба Усольцева“, „Соломенная сторожка“ и др.Лауреат Государственной премии СССР (1987).» Содержание:Тайная лигаХранитель кожаных портфелейБорис Савинков, он же В. Ропшин, и другие.