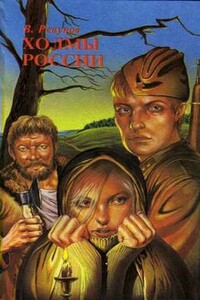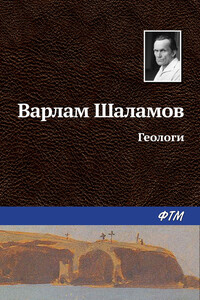Минувшей весной Санька пучок прутьев нарезал с этой вербы. В кадушку с водой их поставил. А когда корешки растопорщились и почки лопнули, взял Санька лопату, пошел по дворам те прутики сажать.
Шутить над Санькой шутили, но не запрещали природу преобразовывать. От чужих собак вот только доставалось. Два пакета сахару перевел — каждую уламывал.
Мать после хватилась. Полезла в ларь взять там что-то и говорит:
— Отец, а сахар где?
— Не знаю. Мыши, может, погрызли?
— Вот, проклятые, до чего избаловались! Крупа лежит — не тронули. Да смотри, как культурно: сами и пакеты открыли, — сказала и на Саньку покосилась.
Не один Санька, а и прославленные генералы и академики, те тоже когда-то не ждали, пока мать веревку или ремень найдет. В одно мгновение был он за дверью. На изгородь вскочил. Вот тут и случилась потеха. Под изгородью, пригревшись на солнышке, сладко похрюкивал соседский боров. Санька прямо с изгороди прыгнул впопыхах на того борова, раздался визг. Боров подскочил на месте раз-другой — соображал что-то — и вдруг, отбрыкивая, через грядки, кинулся с такой скоростью, что и пуле бы за ним не угнаться. Разглядел какую-то, одному ему видную, щель в плетне, вонзился в нее, выломал три кола — и застрял.
Санька побыл немного в кузнице. Помог деду Даниле мехи покачать. А тот, пока разжигался уголь в горне, вышел покурить на свежий воздух. Сунул руку в кисет и замер. Что такое в степи? Стоит плетень среди полыни. На плетне горлач, чья-то рубаха сушится. Подлетела сорока, хотела сесть на кол, но плетень вдруг двинулся — сам пошел, покачиваясь.
Дед Данила только к науке доверие имел, книги всякие почитывал про моря, про звезды, про то, как Земля и другие планеты из пыли произошли. А про такое — нет, не читал.
Заметили плетень и женщины с фермы. Прибежали к кузнице.
Дед Данила, недолго думая, объяснил, что это явление такое природы — мираж.
— От знойкого воздуха бывает. Леса иной раз кажутся, реки. А пройдешь сквозь — нет ничего. Одна видимость и этот плетень. Погодите — таять скоро начнет.
Пока дед Данила рассказывал, Санька до плетня сбегал и назад вернулся.
— Дедушка Данила, это боров ваш там, в плетне-то, снес его.
После этого случая Санькин отец дня два ни обедать, ни ужинать не мог: смех находил на него. Только сядет, поглядит на Саньку — и тотчас из-за стола. Ходит по дому и хохочет.
— Ты бы уж не смешил его, сынок, — попросила мать. — А то еще подавится. Как без отца жить будем?
Мать положила тетрадь на подоконник. Придвинула табуретку и села что-то записывать. Санька знает: ягнятки сегодня на ферме родились — шесть штук. Вот мать и пишет про них.
— Папань, а ты, знаешь, о чем думай, чтоб не смеяться?
— А ну-ка, помоги, сынок.
— Будто открывается сейчас дверь и входит, — знаешь, кто?
— Кто?
— Цыпленок.
Теперь уже Санька звонко расхохотался.
— Ну, будет, сынок. А то достанется нам от матери. Гляди, строгая какая сидит.
— За чужой-то щекой зуб не болит, — сказала мать и, вздохнув, поднялась.
Отец сел к столу, усы подкрутил. Лицо смуглое, молодое. В глазах задоринки так и блестят. На груди планки — знаки отваги солдатской.
Мать принесла от печки тарелку с борщом.
— Ешь. А то одни скулы остались, смеявшись-то.
Многие из вербочек, которые Санька в дворах насадил, прижились. По красноватым прутикам вспушилась листва, такая нежная и чистая, что даже сияла, как от капель.
А осенью, в пример всем, Саньке от колхоза коньки с ботинками преподнесли. Вот погордился он перед отцом с матерью. Ходил в тех коньках по горнице, показывал, как надо через ножку кататься, как прыгать. Отец от грохота голову полотенцем обматывал или брал шашки и к товарищам уходил. Насилу морозов дождались.
Как выехал Санька на коньках за ворота, так и не стало с той поры сладу с малым. Придет из школы — сумку на печь, коньки привинтит — и айда на озеро.
Вечером ввалится весь в снегу, мокрый. Какие тут уроки! До постели бы живым добраться.
Взялся за Саньку отец. Не кричал, ремнем не грозил, а велел слово дать.
Но через неделю учительница сама домой к ним пришла, пожаловалась, что опять не делает Санька уроков.
На другой день утром отец и говорит:
— Эй, лодырь, пошли — сена поможешь принести.
Санька насупился, что лодырем его назвали. Помогал отцу нехотя. Молчал. К завтраку не притронулся. Голодный в школу пошел.
Вечером отец опять говорит:
— Эй, лодырь, ужинать садись!
В сенцы убежал Санька от такой обиды. Минут десять на холоде мерз, слезы соленые глотал.
— Чем браниться с малым, лучше унеси-ка ты эти коньки куда от греха подальше, — слышит Санька, так мать сказала.
— Не в коньках дело. Хочу, чтоб сызмальства понял, что значит слово. Почему нарушил его?
— Не учеба — одни затеи в голове. Калитку вон на огороде оторвал. Своих пару коньков да третий чей-то привинтил. Самокат, говорит. Парус из твоего плаща наставил. На озере по льду летает-то, страх!
— Да ну!
— «Я, — говорит, — еще крылья приделаю, куда хочешь полечу».
— Вот чертенок! А ну зови-ка его.
Мать позвала Саньку, за стол усадила. Каши с молоком поставила.
— Вот ешь, набери силы, сынок, да слово-то вновь и возьми накрепко.
Отец отошел к окну. Закурил.