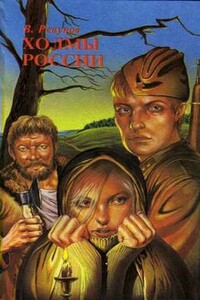«Кроме зайцев, пока еще ни за кем не гонялся», — подумал Федор с обидой.
Глаша, притихнув, наблюдала за ним, стоя на темном крыльце, у двери, за которой чуть слышно было радио.
Не оборачиваясь, Федор сказал:
— Ты не мерзни. Иди грейся.
И когда стукнула дверь, Федор в досаде стегнул кнутом: как промахнул!
«Почему ж не пождала? А может, есть тут кто у нее?» — и чем темнее мглило на душе у Федора, тем ярче, в каком-то блеске чудилось ему смеющееся Марийкино лицо.
В чайной народу было немного. Неподалеку от стойки с консервами за стеклом сидели трое в полушубках, перепоясаны патронташами. Верно, охотники или завмаги, приехавшие в район за товаром. Грелся чаем старичок, поглядывал на них из угла с некоторым любопытством.
Глаша села поближе к печи. Но печь чуть теплилась.
Ни есть, ни пить Глаше не хотелось. Только бы согреться.
По радио, хрипевшему с минуту, вдруг чисто прорвалась песня. Любила Глаша эту песню об одинокой гармони: тайна ее, казалось, была подслушана поэтом где-то здесь, среди вечерних полей.
Бывало, ночью запоют за деревней. Разве уснешь? Зябко сжимая прохладные плечи, подходила Глаша к окну и глядела туда, где туманилась река. Там клади. Там Федю встретила…
Глаша отвела занавеску на окне. Ничего не видать за блестевшим от снега стеклом… Не заметила, как вошел Федор и тихо сел напротив нее за стол. Куда глядит Глаша? Что высматривает. Вот загородилась рукой от света. В стекле отразилось ее лицо, а за ним — чернота.
Стекло от дыхания потускнело. Глаша протерла его. Ярче зажглись звезды, а снег на крышах заискрился, и даже тьма казалась теперь глубже, таинственнее.
«Ушел с ней», — вздохнув, она опустила занавеску.
Да вот же он! Напротив сидит!
— Федя? — удивилась она.
— Оттаяла?
— А я думала, ты с Марийкой завеялся.
— Любезная, чаю нам, да погорячее, — попросил Федор буфетчицу.
Та не торопилась — считала деньги, раскладывая их масть к масти, наконец крикнула официантке:
— Валя, тебя повесткой требовать или как?
Валя подала большой фарфоровый чайник с кипятком, и маленький — с заваркой.
— А что в клуб не пошел? — спросила Глаша.
— Закрыт. Ребята шли, сказали.
Глаша налила в стаканы чаю, сперва Федору, потом себе. Он наклонился над своим стаканом, но пить не стал.
— Гармонь играет далеко где-то.
— Туда не пойдет. К тетке, верно, побежала. Тетка у нее тут за рекой живет.
— Ты будто утешить меня хочешь?
— Просто предполагаю.
— Веселого, признаться, мало.
Федор тронул ее руку, вызывая на откровение.
— Уж если разговор зашел, скажи: есть тут кто-нибудь у нее?
— Есть кто-нибудь? Да она, как ветер, к ней и не привяжешься!
Федор подумал и сказал:
— Ветер… похоже… Шальной уж больно!
— За это и нравится.
— Не знаю: за это ли?
Чай на колодезной воде был вкусен, душист, а крепкая заварка придавала ему цвет гречишного меда.
— Посмотри, Федя, одни люди чай приготовили, печь натопили, а другим — хорошо. Как же за это отблагодарить? Только добром.
— Это когда человек с совестью. А когда без совести — добро на ветер.
Она улыбнулась так, что ярко заголубели радужки глаз.
— Будем любить яблоньку. А репей репьем и останется.
Чернее и студенее прежнего было на улице, когда Федор и Глаша вышли из чайной. Вывели коней на дорогу. Оглядели упряжь, завертки и, где надо, подтянули, поправили заледеневшие ремни. Взворошили сено, чтоб было теплее сидеть. Можно и ехать. А как же без Марийки?
Где-то далеко трещал мотоцикл. От горящей фары его над крышами сияло. Зажигались голубым огнем деревья и тотчас гасли. Сияние двигалось, кружило. Отблеск его мерцал в фарфоровых изоляторах на столбах.
В чайной уже погасили свет, а Марийки все не было.
— Придется к тетке идти, — сказала Глаша.
Пошел Федор.
«Убежала, и хоть бы что ей. Ведь знает же, что ехать надо. Где бы уж сейчас были! А теперь когда тронемся? Сколько мороки наделала!» — шагая под гору к реке, думал Федор.
Но напрасно ходил. Марийки у тетки не было. Забежала лишь на минутку. Подняла брата Митю и поехала с ним на мотоцикле кататься.
Вернулся Федор к чайной через час. Сняв варежку, вытер жаркий лоб под шапкой.
— В космос улетела. Придется ждать возвращения.
— Уже приземлилась. Брат ее тут на мотоцикле прикатил. Сказал, у геологоразведки нас ждет. Едем!
Возле дороги, у конторы геологоразведки, играла гармошка. Три или четыре повторяющиеся звука частили какой-то танец. На притоптанном снегу кружились пары. Мелькая, вспыхивал Марийкин полушалок. Танцевала она с парнем. Был он без шапки. Конец шарфа летал за хозяином, носившимся с Марийкой по кругу.
Федор проехал молча. Глаша окликнула Марийку. Та подбежала и, раскрасневшаяся, жаркая, повалилась в сани.
Парень прошел следом несколько шагов. Остановился, ожидая прощального взмаха или хоть взгляда.
— Федя, чаю у тебя не осталось? Пить хочу! — крикнула Марийка.
Он не ответил.
— Ну и не надо! Снегом напьюсь.
«Еще заболеет. Возьмешь грех на душу», — подумал Федор и остановил коня…
4
Большак был широкий, накатанный. За грядой, отваленной снегопахом, — поле. Оттуда, как из разбитого окна, сквозило стужей.
Глаша, сколько ни зарывалась в сено, не могла согреться.
Зябла спина, коченели ноги. И когда она засыпала, ей чудилась темная жаркая изба. Глаша будто входила в нее тихонько, чтобы не разбудить хозяев. Но каждый раз ее окликали… Она раскрывала глаза и видела темневшие кусты. Скрипели под самым ухом полозья. Раз показалось, что конь ее давно стоит. Она вскочила. Ехали через какую-то деревню.