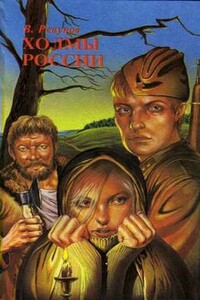— Очень даже идет, — добавила Глаша.
Понесла ведро в избу.
Кочмарев стоял у окна. Глаша поставила ведро на лавку.
— Крутой, малый-то ваш. За хлеб-соль не пощадил, — сказал Кочмарев хмуро.
И снова заскрипели полозья. Теперь звонче: к вечеру подмораживало. Отволгшее сено заиндевелось, и тем свежее были запахи, из которых выделялся неутешной грустью один — запах полыни.
Сразу за Одинцами — яр. Секут вьюги его закаменевшее лбище, а с весны калит солнце. Ручьи промыли расщелины, в них лопушится мать-и-мачеха, цепляются шиповники, да ютятся недоступные гнезда. На пороге лета, когда долго не гаснут звезды, а ночи свежи и прозрачны, когда по краю неба мигает сумрачно свет, тут булькают, щелкают и свистят соловьи. Внизу, у самого берега, на пойме, — чащина ольшаников, перевитых хмелем. С этого яра видны дальние деревни, леса и дороги, по которым ночами кружат и мелькают огни машин. Угра под яром не замерзает. Зияет прорвой.
Конь Федора, пугаясь обрыва, заломался в оглоблях.
— Видать, сена ты только не боишься! — крикнул Федор на коня и, стегнув его, обернулся к девчатам, поправляя сбившуюся шапку. — Осторожнее!
Пронеслись сани Марийки.
Зажмурившись, она взвизгнула.
Обвалившийся ком снега полетел вниз. Ударился там в олешники, и сразу же всполошились, скрипло закричали галки.
Федор смотрел теперь на Глашу: как-то минет она обрыв?
— Вот дурачок, испугался! — сказала Глаша ласково коню. — Ну!
И сани тронулись.
«С выдержкой девка», — подумал Федор.
Сердце Глаши замлело. Было страшно и радостно мчаться высоко над рекой. Что-то похожее было когда-то пережито… Что?.. В памяти вдруг сверкнула тихая на рассвете река… Клади… Глаша бежит к ним по стежке. Холодно от росы босым ногам. С травы брызжет на колени. Туман. Доносятся протяжные вздохи из-за реки; где-то часто и жестко зашипит по железу, кто-то крикнет: там, за рекой, косят. Глаша взбежала на клади. На середине стоит с удочкой Федор — не сразу и узнала его: гимнастерка расстегнута на груди. Из воды, гладкой, как стекло, торчит перо поплавка.
— Проходи, — сказал и глянул на нее серыми, блестевшими от азарта глазами.
Клади узкие — в два бревна. Как тут разойтись? Федор прижался к перильцу — березовой жерди. Глаша боком пошла по самому краю, чуть не оступилась. Федор схватил ее. Руки у него горячие, крепкие. Вышла на берег, под нависшие кусты. Сумрачно тут, пахнет землей и мокрыми листьями ивы.
Встреча эта случилась прошлым летом, когда Федор приезжал на побывку.
И вот снова он.
«Не судьба. Да я и не в обиде. К чему?» — думала Глаша. Глаза у нее цвета голубеющей ржи, а волосы из-под платка выбились, свились спелыми колосьями, в страде первая, а вот на людях рядом с Марийкой и не садилась, чтоб не равняться с шалой ее красотою. Позапрошлым летом Марийка еще была невидная. И вдруг, как яблоня в одну ночь зацвела, — вышла к ребятам. Разве не радостно с такой? Она и воду-то пьет, лукаво заглядывая в ковш!
Семечки у Марийки кончились. Скучно так сидеть. Федор поправил шапку, сбитую вдруг ударом снежка, и слез с саней. Кто кинул? Марийка глядит в поле, словно запечалилась. Глаша смеется. На нее и подумал Федор. Обождал, пока подъедут ее сани. Тут бы Глаше и позадориться, побегать с парнем, погреться. Но как-то не получилось: будто скованная, сидела.
Федор слепил снежок и кинул его в Марийку. Та только и ждала этого. Спрыгнула с саней. В Федора запустила. Он — в нее. И пошло! Бегали друг за другом. Падали, увязая в снегу. Шапка у Федора слетела. Угодила Федору в бровь. Сошлись вплотную. Лепить снежки тут уж некогда. Сыпали друг в друга снегом из пригоршней. Снег таял на лице, на ресницах, отчего еще пуще блестели глаза.
Марийка едва держалась на ногах от усталости. Федор заметил это и поднял руки — будто сдался.
— Глаша, Глаша, победила! — ликуя, закричала Марийка.
Выбрались к дороге, раскрасневшиеся, веселые и усталые. Марийка обломила с ветки сосульку, стала ее грызть.
— Брось! Лучше чаю дам, — сказал Федор.
Вытащил из сена рюкзак, достал термос. Марийка отпила несколько глотков. Чай был густой, горячий.
— Так бы и выпила весь.
Федор понес термос Глаше.
— Что скучная такая? — спросил.
— Нисколько, — ответила она так, будто удивилась.
Далеко, над кромкой земли, сумерки высеяли ясные звезды.
3
Приехали в Благодатное вечером — районный городок, от которого пути до станции — еще двадцать верст.
Горели огни на взгорье. После лесов они так и манили к теплу, хранимому доброй русской печью.
Кони, почуяв постой, пошли быстрее. Из ноздрей валил пар. Гривы и бока были в инее.
На площади, где на столбе краснел фонарь, раскачиваемый ветром, — чайная и коновязь с горожбой. Тут и остановились. Федор затопотал отсыревшими и промерзшими валенками, потер ухо.
Кинув своему коню охапку сена, Марийка сказала:
— Гармошка в клубе. Пошли!
Глаше не до гармошки: озябла.
— Идите. Я в чайной обожду.
— Сейчас решим, — отпуская чересседельник, проговорил Федор.
Но только для Марийки продолжала звенеть неслышная отсюда гармонь. И не удержать было девку, пока Федор возился с упряжью, ушла.
Ее полушалок неясно белел, мелькал в темноте, потом вдруг вспыхнул под фонарем и пропал.