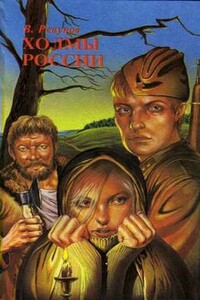— Ну, здравствуй!
— Шутишь? — Он сжал ее быстрые пальцы.
Глаша из-под отворота полушубка вытащила иголку с ниткой. «Федя, иди ко мне, карман зашью!» — хотела крикнуть, но промолчала: не до ее забот было Федору.
На санях смех. Весело! Даже Глаша улыбается, хоть и смутно у нее на душе. Эх, лучше бы дома остаться! Глядит на свой рукав с латкой. Оделась в дорогу во что поплоше. А может, зря? Вон Марийка, как на гулянье едет! Каждый взглянет — приметит.
«Каждый… да тот полюбится, какой, может, и не взглянет», — думает Глаша.
Конь зашлепал по воде. Это из болот натекло. Гнилая стояла нынче зима. Снег лег на незамерзшую землю, укрыл ее, сырую, как шубой, и преет, и сочится рудая, на мхах настоянная вода, и там, где стремглавная быстрина клокочет перед каменистым порогом, теплится пар из отдушины, смерзается в иней, нарастают серебристые колосья по закраинам.
Не удержалась Глаша — подбежала к отдушине, что у дороги, под елью. Может, на бруснику посчастливится? Сладки под снегом ее карминно-красные гроздья. Нагнулась. Пахнуло из глубины, как от опары… Вода, словно в ковше, а вокруг, по ободу, уже грелись зеленые травинки.
«Милые», — улыбнулась Глаша робким и чистым надеждам.
2
На пятнадцатом километре, в Одинцах — большом селе на берегу Угры, — обоз остановился. В гору ломилась дорога — приустали кони. Свернули к плетню напротив почты. Из-под крыши ее лучились провода к столбу, гудящему день и ночь. Марийка прислушалась и вдруг соскочила с саней.
— В колхоз сейчас позвоню!
— Зачем? — спросил Федор.
— Знаю, зачем.
Когда она скрылась, Глаша сказала:
— Хлебом не корми, дай только по телефону поговорить! А тут такая возможность.
Они бросили коням по охапке сена и направились в избу погреться.
Хозяйка избы, взглянув в окно, вздохнула.
— Конечно, к нам. И что за наказание! То проезжее начальство пьет-ест, то охотнички грязи болотной нанесут, хоть сей. Ни к кому — только к нам. Как все равно медом тут намазано!
Хозяин — лесник Трофим Кочмарев — сидел за столом, обедал.
— В лесу жили — не нравится. Здесь — тоже. На облаке, что ль, избу теперь ставить?
Вошли Федор и Глаша. В избе было жарко. Пахло томленными в печи щами и упревшим мясом.
— Хлеб-соль! — сказал Федор.
— Милости просим, — отозвался Кочмарев.
— Просим, гостеньки дорогие! Садитесь, — запела хозяйка, румяная от жары и от своего щедрого здоровья.
Федор снял шапку, откинул завлажневший воротник тулупа. Глаша присела на лавку. Огляделась.
Изба просторная, светлая, со свежебеленой печью. На окне в проржавленной каске огоньком цвела герань. У порога лежала собака. Смотрела на вошедших свирепым от бельма глазом.
— Плесни-ка щец — погреться ребятам, — сказал Кочмарев.
— Горячего с удовольствием, — разохотился Федор.
Глаша отказалась: было и так хорошо, что тепло, что добры хозяева.
Хозяйка поставила чашку щей, подернутых потускневшим жирком, нарезала большими ломтями хлеба, подала ложки.
— Куда путь правите? — спросил Кочмарев.
— За блинами, — пошутил Федор.
Кочмарев попил квасу. Вытер рушником усы и бороду.
— За ржаными или пшеничными блинами-то?
— За лен пшеничные полагаются.
Глаша прислушивалась к разговору, глядела в окно на черемуху. На шершавых ветвях ее мочалилась сорванная кора.
«Как ломают, и все-таки цветет!» — подумала.
— А мы вот нынче не взяли льна: не уродился, — сказал Кочмарев.
— Не уродился! Сорняками зарос ваш лен, — вставила Глаша. — Мы свой пололи да подкармливали.
— Звеньевая, значит, деловая, — вступила в разговор хозяйка.
— Спасибо за похвалу. — Глаша поднялась. — Федя, я коней схожу попоить.
— У них и председатель не то, что у нас, — заговорил Кочмарев. — И своих и чужих на году по два раза меняем. Прошлым летом один что, сукин сын, сделал: взял деньги колхозные и поехал коней покупать. Заявляется через неделю. Ни коней, ни денег. Обокрали, говорит. А сам весь опух от винища, рожа — что чугун.
— Где ж вы откопали такого? — спросил Федор.
— В пекарне работал. Негодный и там был. Вот оттуда его к нам и спихнули. И куда? К хлебу. На воду бы посадить того, кто спихнул его, так знал бы, что такое колхозный хлеб, а то нет понятия, потому как иные не от труда растут, а вроде бы уж мода такая: чуть показал себя — давай поднимать его в начальство непременно. Ему еще на деле только ум свой растить, а он уж указывает. Сколько ребят наших так потерялось. Говорили. Да разве старых людей слушают? Сами всё. А старый человек, он, глядя на дерево, еще и корни видит.
— Вы кем в колхозе-то работаете?
— Я не в колхозе. Я лесник.
— Чего ж тогда жалуетесь, что спихнули вам кого-то, если сами колхоз без глаза оставили?
— Авдотья, слышишь, виноватого нашли, — обратился Кочмарев к жене.
— А поделом, не мели.
Федор отложил ложку.
— Спасибо. Как у матери поел.
— На здоровье.
…Глаша поила коня. По лицу ее мелькал холодный блеск от воды. Рядом Марийка. Разглядывает кусок белого шелка: в сельпо на платок себе купила.
— Федя, посмотри, идет мне? — спросила, когда Федор подошел к девушкам.
Марийка накинула шелк на спутавшиеся черные волосы, стянула концы у подбородка. Улыбнулась, лукаво кося глазами.
— Идет, — сказал Федор, любуясь.