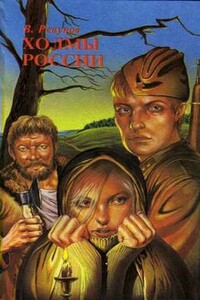Михаил посмотрел на испачканный в дегте конец плетки, вильнул ею и, скалясь, ударил коня.
Бричка дернулась, пронеслась с пригорка к деревне. Все закружилось, засвистело вокруг. На молотилке закричали женщины, и несколько человек собрались к околичным воротам, чтобы раскрыть их. Михаил зажмурился, и в эту же секунду в ступицу брички что-то ударило, затрещало под колесами.
Не останавливаясь, конь понес дальше. Но на перекрестке перешел на рысь и свернул в проулок, в глубине которого стоял дуб. Корявый, узластый у земли, поднял он прямой ствол к небу, положив ветвь на крышу крыльца.
— Приехали, — сказал Михаил и отшвырнул оборванную плеть.
Трофим Матвеевич слез с брички. Помутневшие глаза его, казалось, не принимали того, что творилось вокруг. С крыльца, в белой распоясанной рубашонке и коротких, по колено, штанах, сбежал Пашка, но остановился вдруг, насупился. Следом за Пашкой выбежала Настя.
— Дядя Трофим, миленький! — закричала она.
Михаил замахал ей рукой, чтоб убиралась.
Трофим Матвеевич, тяжело дыша, ввалился в избу. Напротив порога через распахнутую дверь горницы виднелось окно. Из палисадника пробивалось солнце, и каждая половичка в горнице горела в его свете. Комод, кровать и сундук — все было застлано белым. И только зеркало отражало темный бревенчатый угол, на стене стучали ходики. Трофим Матвеевич с минуту недвижно глядел на них. Потом поднял палец и покачал им в такт маятнику.
— Тик-так, тик-так, — проговорил он, — тик-так, тик-так.
— Батя, ты что? — закричал Михаил.
Трофим Матвеевич уставился на сына и вдруг, сморщив губы, повалился.
— Настя, воды! — Михаил бросился перед отцом на колени. — Батя, ну чего ты? Батя… — зашептал Михаил, склонившись над отцовым побледневшим лицом.
Трофим Матвеевич раскрыл глаза. Оттолкнул ковш воды и глухо сказал:
— Уйдите.
В сенцах Настя шепнула Михаилу:
— Гостям-то, может, сказать, чтоб не собирались?
— Ничего… На людях лучше. Грибков пожарь… слышь… опеночков, любимых его.
— Бычка надо резать, ежели гости соберутся, — сказала Настя.
Михаил молча взял нож, веревку и вышел из хаты.
Трофим Матвеевич сидел на лавке. Кот, лежавший под окном на табуретке, не сводил своих косых горящих зрачков с его вздрагивающих рук.
— Что ж убиваться, дядя Трофим… — тихо заговорила Настя. — И наша жизнь пройдет, быльем порастет.
Трофим Матвеевич кинул на сноху взгляд исподлобья. Она стояла у порога, прислонившись спиной к дверному косяку и, положив смуглую руку на спинку кровати, задумавшись, глядела под ноги.
— Вспомни, вспомни хоть, как мать помирала-то, — заговорил Трофим Матвеевич. — Где ее могилка? Иль толком и схоронить не сумели, снесли да комьями забросали? Место какое выбрали? Под деревом иль на песке сыпучем?
Настя опустилась на порог и заплакала.
— Какие слова говорите вы, дядя Трофим! Не виноваты мы. Звали ее в лес — не пошла, хату караулить осталась. А Михаил в ту пору на войне был. Мы с Пашенькой со двора… Глядим, немец черномазый с огнем бежит. Бросаться этим огнем стал на солому. А она, Марь-то Петровна, валиком хотела его прогнать, душа-то отчаянная, подбегает. А немец прямо в глаза ей пальнул. Бросились мы назад с Пашенькой. Лежит она за порожком, лицом в ладошки схоронилась, словно плачет… Ну, будет вам, дядя Трофим… Дядя Трофим! — закричала Настя и кинулась к нему.
— Уйди!
— Дядя Трофим, родненький…
— Где Мишка?.. Он виноват! Он три года, дьявол, держал во мне…
Трофим Матвеевич схватил топор, задыхаясь, побрел по хате.
— Дай мне траншею вражью!.. Дай мне траншею.
Настя выбежала, хлопнув за собой дверью. На пороге сеней, держа в кулаке нож, вымазанный по рукоять кровью, стоял Михаил.
— Бушует?
— Боязно что-то, Миша.
Михаил швырнул на ларь нож.
— Веревка чертова попалась, гнилая. Оборвал. Все стены кровью забрызгал, пока бодался.
Настя глядела на мужа, на блестевшие белки его глаз, на бледное, сухое лицо и порывисто раздувавшиеся ноздри и думала: как похож на отца, и какими, должно быть, страшными были они оба, когда ходили на немцев.
— Три года ждал я денька этого, Настя. Три года кошмарило меня. Теперь кончилось.
Вечером в просторной избе правления колхоза собрались гости. Те, которые сидели у окон, с нетерпением поглядывали на улицу — поджидали Трофима Матвеевича.
Кое-кто успел уже выпить и теперь громко разговаривал, но и те, кто еще не пригубил, тоже были оживлены, предчувствуя веселую и шальную ночь. Играла гармошка. Гудел, перекатывался по избе говор.
— Граждане, курите по очереди, а то ить остервенели, ей-богу!
— Чего ты?
— Я и говорю, должны мы его в председатели на ручках внести.
— Ага, ага, ножичек упал, зазвенел! Быть сию минуту Матвеевичу.
— А помните, как рубашку батистовую за ульи-то с тела снял?
— При мне это было. Их сразу трое в Курбатовку приехало: береговский председатель, ожогинский и Трофим Матвеич. Не уступают друг дружке. Ну, и пошли, кто больше. Деньги на кон. До трех тыщ дошло. Выдохлись. Тогда Трофим Матвеич рубаху новенькую, батистовую…
— Тихо, Михаил идет!
Гармошка умолкла. Михаил, поскрипывая новыми сапогами, вышел на середину избы, облизал губы и крикнул:
— Гуляй одни! Не придет он…
Этой ночью Михаил допоздна сидел на пороге амбара. По крыше барабанил дождь. Крапива шумела у стены. Сквозь тучу тускло просвечивал месяц. Изредка доносились глухие раскаты грома. Дуб притихал тогда и вдруг вспыхивал каждым листком своим, отражая далекий свет молний. Напротив амбара, в окне белела рубаха Трофима Матвеевича. Он сидел спиной к улице и не поднимался с вечера.