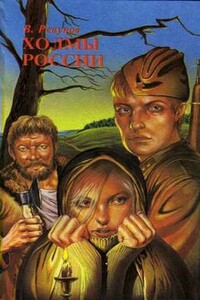— Вот они, начались! — сняв картуз, крикнул Трофим Матвеевич. — Вся душа рвалась к вам, родименькие.
— Видишь березку? — кнутовищем показал Михаил. — Оттуда наша земля и начинается.
— Картошка, кажись, а?
— Картошка.
Трофим Матвеевич привстал, держась за резную спинку сиденья, и весь подался вперед. Полы его плащ-палатки распахнулись над бричкой, которая, будто птица, неслась по дороге.
— Ты и ветряк, оказывается, поставил? Молодцом!..
А это что чернеет?
— Водонапорная башня. В каждой избе теперь водица. Хошь — пей, хошь — купайся.
— От, леший, ну, леший! Просил ведь: пиши, Мишк, про дела, а ты все поклоны одне. Хорошо, что на бумаге те поклоны, а то бы у вас в пояснице треснуло, кланявшись-то.
— Вот и наши поля начались, — помолчав, сказал Михаил.
— А ну-ка приостанови!
Трофим Матвеевич слез и зашагал через выгон к побуревшему картофельному полю.
— А хороша удалась! Ей-ей, хороша! — кричал оттуда Трофим Матвеевич, руками разворачивая под ботвой землю и ощупывая клубни.
— К тому краю посильнее будет, — отозвался Михаил.
Трофим Матвеевич вернулся разрумянившийся, радостный. Подсел бочком к сыну. Мокрыми, вымазанными в земле пальцами раскрыл портсигар.
— Бери, Миш, закуривай. Да ты тройку сразу: заграничные, табачишко-то слабенький.
Михаил полюбовался золотистым ободком мундштука, покачал головой.
— Насчет этого они спецы — дерьмо в красивой обертке преподнести, — сказал Трофим Матвеевич.
— Эх, позавидуешь тебе, бать! Где ты только не был!
— Пришлось, верно. Аж замутило — на чужую жизнь глядеть.
— Что, не понравилось? А, говорят, электричество везде, асфальт, газ голубой в витринах.
— Хе-хе, Миша, не та цена этому, как говорят, не та. Ватрушки, бывает, едят, да плачут. Чего, кажись, лучше — из садов крыши красные черепичные видать под Бухарестом-то. А вошли мы — к нам, будто на огни, люд простой потянулся. Одиннадцать звездочек у меня, как у старшины, про запас было, — все выпросили. Словно брильянты какие, в петлички пристегнули, а вдруг и засияли лицом. А отчего? Силу в себе свежую, молодую почуяли… Вот тебе и газ голубой!
— Ну, бать, про Вену расскажи. Обещал ведь в письме.
— Не-е, малый, теперь ты говорить изволь. Как тебе на моем месте, председателем-то? Что народ про работу твою говорит? Медком не промазывай, как есть на самом деле, батьке скажи, а то сам до всего докопаюсь.
— Плохого не слыхал от народа, не попрекают пока, — ответил Михаил.
— А сад как, не заглох?
— Писал же тебе: сто корней вишни добавил. Хотел владимирки постараться — не было.
— Эх, жалко, жалко, — подхватил Трофим Матвеевич. — Много всякой вишни приходилось пробовать, а слаще нашей владимирки нету.
— Что ты, бать! А шубинка? С кислицей чуть, но варенье на мед ни одна баба не променяет.
— Варенье, значит, варите? Эх, и любительница мать наша с вареньицем-то у самоварчика посидеть!
— Новый самоварчик купили, бать, а зря! Теперь скоро у чайника электрического сидеть будем.
— Что, электричество проводят?
— Нет, свою станцию ставить надумали.
— Видел я там, Миша. Небольшенькая стоит на речушке какой-нибудь — свет на хуторе, и молотилка стучит, и чайку вскипятить можно. Запала в меня эта мечта. Вот бы сотворить нам такое.
— Тебя, бать, только и ждем, — сказал Михаил с улыбкой. — В прошлом году мы это и надумали. Деньжат помаленьку скопили: частью свои, частью колхозные, частью из района подбросили… Все ждут, смотрят на нас. Начинать надо. На собрании в прошлое воскресенье решили всю антоновку на базар вывезти, чтоб вовсе не бедствовать в деньгах.
— Ты погоди спешить. Дело серьезное, с учеными людьми поговорить надо, посоветоваться. Может, в этом году и не приступим. Какие-либо другие постройки поставим.
— Да уж толу завезли, рвать яр собираются.
— Молчу пока. Вникнуть мне надо во все, тогда и порешим.
Бричка проехала под кустом бузины, глядевшимся в лужицу красными гроздьями ягод, и свернула на сумеречную лесную дорогу. Под сосной на рыжих иглах хвои валялась неубранная немецкая пушка.
— Немецкая, — сказал Михаил, сплюнув.
Когда отъехали шагов на тридцать, Трофим Матвеевич спросил:
— Здорово набедовали тут?
— У нас не шибко, не успели — вышибли их, восемь дворов пожгли, считая и наш.
— Из народа побили кого?
— Многих побили…
Лес кончился, и на дороге опять посветлело. Кое-где сквозь тонкие стволы березок замелькали избы, выплыл из-за косогора желтый разлив сада, горбатой щеповой крышей проплыло хранилище. Потом сразу открылась вся деревня. Там, где Трофим Матвеевич еще парнем вколотил в землю кол и отстроился невысокой бревенчатой халупой о двух оконцах, под соломенной крышей, теперь стояла новая хата. Четыре окна, оправленных в голубые наличники, глядели на улицу.
— А на крылечке что-то пусто… крайнее окошко занавеской задернуто, будто не просыпались еще, — сказал Трофим Матвеевич и покосился на сына.
Тот сидел, опустив голову, такую же черноволосую и взлохмаченную, как у отца, только колечки кудрей были полегче.
— А вон и материна прялка на огороде валяется, — продолжал Трофим Матвеевич.
Михаил заерзал, прикрикнул на коня:
— Но-о, идет, будто газету читает!
— Теперь понимаю… — проговорил Трофим Матвеевич. — Одно слово только: жива?