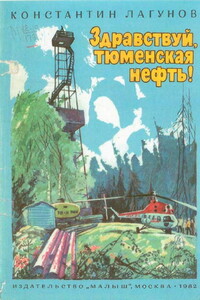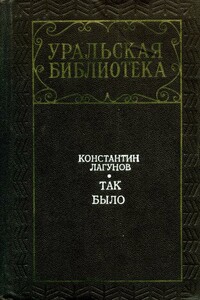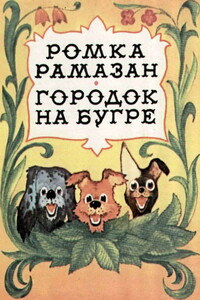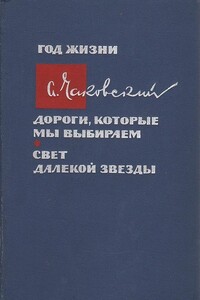В кабинете вытвердела каменная удушливая тишина.
— Есть сигареты? — хриплым шепотом спросил Бурлак.
Немыслимо долго Юрник добывал из кармана пачку сигарет.
Молча протянул.
Молча щелкнул зажигалкой.
Сделав первую затяжку, Бурлак закашлялся, зло кинул сигарету в пепельницу.
— Спасибо, — вымолвил он наконец, похоже без обиды и без подковырки. Вдохнул глубоко, повторил громче и тверже: — Спасибо, Юрий Николаевич. Теперь я вижу, что я теряю настоящего друга.
Подвинул заявление Юрника, написал в уголке: «Освободить в связи с переходом на другую работу». Расписался, поставил дату. Подавая заявление, сказал:
— Будь счастлив, Юрий Николаевич. Не получится там, возвращайся, примем с распростертыми объятиями на любую должность…
Громко и сухо щелкнул селектор. Голос секретарши возвестил:
— Вас по прямому из министерства.
Бурлак взял трубку.
— Приветствую вас, Игорь Палыч. Да, слушаю. Так. Так. Понимаю. А когда нужно? Подходит. Оформляйте. Согласен. Спасибо. Вам также. Всего доброго.
Положил трубку, перехватил вопросительный взгляд Юрника.
— Командировка в Венгрию. Что-то у них с газопроводом не ладится, просят помочь.
— Когда? — заинтересованно спросил Юрник.
— В конце июня.
— А как же Ольга? Ей ведь…
— Ну да. Приедет мать. Да и ты рядом.
— Не сомневайтесь, — автоматически проговорил Юрник.
Вдруг спохватился, хотел отмежеваться от сказанного, но глянул на Бурлака и не смог.
2
Прозрачной кисеей сиреневые сумерки закрыли затихающий Будапешт. Город преобразился, стал изящней и легче, а в его чертах появилось что-то нереальное, полуфантастическое.
Расплылись, зашевелились доселе недвижные шпили и купола костелов, базилик и соборов, утратили четкость граней и весомость громоздкие здания на берегу Дуная, а сама река накрылась легкой дымкой, и в ней, как в невидимой паутине, запутались пароходы, катера и лодки. Большие и малые, могучие и слабосильные, они одинаково безнадежно пытались разорвать густеющую на глазах дымку, но лишь сильнее увязали в ней, слабели и обреченно затихали в неподвижности. Пышные кроны платанов казались огромными, зелеными шарами, зависшими над газонами и еле приметно раскачивающимися.
Уличный грохот заметно и скоро затихал. Людей на тротуарах, площадях и в скверах становилось все меньше, двигались они все ленивее, вспыхнувшие вдруг фонари почему-то не светили, лишь маячили, пятная сиреневые сумерки ненужными жалкими белыми кляксами.
Опомнился он от тишины, в темном каменном туннеле вечерней улицы. Рядом, тонкими шпилями подпирая почернелое небо, угрожающе застыла каменная глыба собора.
Что-то вдруг толкнуло Бурлака в самое сердце, потревожило, зацепило. Он потер лоб, пригляделся к собору и ахнул: «Это же Святая Елизабет. Рядом бронзовый дог…»
Проворно пересек неширокую улочку, обогнул дом за решетчатой оградой, и вот он, скверик, похожий на корабельную палубу, три вяза, два столика с каменными столешницами и бронзовый дог.
Подсвеченные тусклым фонарем, бронзовые бока пса поблескивали отчужденно и холодно, а его глаза, устремленные на дом хозяина, показались Бурлаку неприязненными.
Это был совсем не тот пес, подле которого год назад написал Бурлак письмо Ольге Кербс. Но признать это — значило разрушить в себе еще что-то очень дорогое и важное, а жизнь и без того обобрала, ощипала его со всех сторон, и он больше ничего не хотел терять и потому сделал вид, что не приметил холодной неприязни дога, и с наигранным восторгом ринулся к неподвижному псу.
— Здравствуй, старик!
Сперва огладил бронзовую холку пса, потом обнял холодную крепкую шею, прижался щекой к собачьей морде.
— Как ты тут, а? Жив, бродяга?
Волнение захлестнуло горло, горький ком встал в нем кляпом.
Натужно покашлял, прочищая горло. Притиснул волнение, вздохнул глубоко и, похлопывая ладонью по звонкому боку, снова заговорил:
— Рад за тебя. Не гнешься, не ломаешься. Молодчага!.. А меня обстругало. Один я теперь, старик. Слышишь? Один. Марфа ушла, Ленка тоже… Юрника — нет. Феликс — отвернулся. Пусто… И трудно…
Ему очень хотелось сказать еще что-нибудь бодрое, даже веселое.
Но сказать было нечего.
На темной узкой безлюдной улочке тихо и глухо, как в заброшенном колодце.
Дома громоздились мрачно и немо, будто окаменелые чудища с черными глазницами неосвещенных окон.
Словно отлитые из чугуна, тяжеловесно и недвижно замерли черные вязы.
Враждебно смотрел в немую ночь холодный и чужой бронзовый пес.
Бурлак еще обнимал стылую шею пса, похлопывал его по бронзовой холке, но проделывал это уже механически, без чувств.
Чуда не произошло.
Черное не стало белым.
Круг замкнулся.