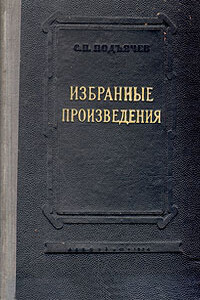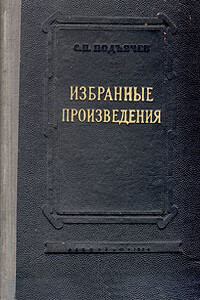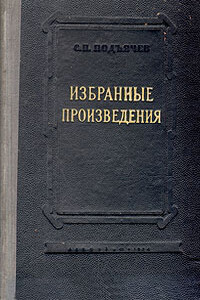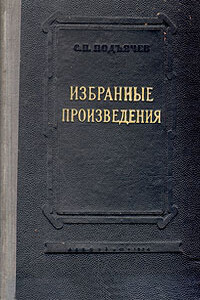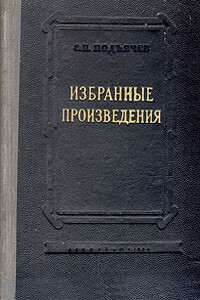…Стали мы его хоронить… Дѣло-то зимой было… морозъ… холодъ несосвѣтимый… Земля-то аршина на полтора промерзла… Самъ я могилу рылъ… билъ, билъ, ломомъ-то!. рою, а самъ думаю: кому рою?.. да… Ну ладно… Убрала его жена во все чистое въ гробу. Дѣвки, цвѣточницы сосѣдки, цвѣтовъ дали… обложили его цвѣтами-то… Лежитъ онъ въ нихъ, аки ангелъ Господень, и словно бы улыбочка на устахъ… Жалко! подойду, посмотрю — жалко!… Сердце-то точно кто раскаленными клещами схватитъ… Ну, пришло время, надо его изъ дому выносить… Что тутъ было, — и сказать тебѣ, родной, не сумѣю. Жена, какъ мертвая… обхватила гробъ-то, застыла… У меня и руки, и ноги трясутся, и плачу я, и топчусь на одномъ мѣстѣ, какъ баранъ… Понесли его въ церковь… Я иду сзади… Жена идетъ… качаетъ ее, какъ былинку… Шаль на одномъ плечѣ виситъ, съѣхала… и треплется эта шаль по вѣтру, какъ птица крыломъ. Ну, отпѣли въ церкви… Снесли на погостъ, зарыли въ землю… Пришли мы съ женой домой… тоска-то, Господи!… Полѣзъ я на печку, легъ, лежу и думаю… Вспомнилъ, какъ мы съ нимъ на печкѣ спали вмѣстѣ… какъ, бывало, скажетъ онъ мнѣ: «Тятька, обойми меня ручкой»…
Вспомнилъ, и такая меня тоска взяла — смерть! Слѣзъ съ печи, гляжу: жена держитъ сапожонки его, валенки, въ рукахъ и разливается, плачетъ… Еще пуще взяла меня тоска! Опротивѣло все… весь домъ… Глаза-бы не глядѣли ни на что!… Взялъ шапку — ушелъ со двора… и началъ я, милый ты мой, съ эстаго разу пить… Забылъ все… и стыдъ, и совѣсть, и Бога… и Богъ меня забылъ… Наплевать, думаю, все одно, коли такъ… Точно, понимаешь, самому Господу на зло дѣлалъ… Озвѣрѣлъ… совсѣмъ опустился… жена опостылѣла… бить ее сталъ смертнымъ боемъ, мытарить всячески… въ ея мукахъ отраду себѣ находилъ… Что только я съ ней ни дѣлалъ!.. Молчала она… извелась… высохла, какъ лучина… Разъ я, что съ ней сдѣлалъ, не повѣришь, а правда… распялъ ее!..
— Распялъ? — переспросилъ я.
— Распялъ! — повторилъ онъ, — съ пьяныхъ глазъ сдѣлалъ это… Вывелъ ее на дворъ, привязалъ ноги къ столбу, а потомъ взялъ двѣ веревки, привязалъ одной за руку, перекинулъ конецъ за переводъ, прикрутилъ, другую руку взялъ, перекинулъ опять конецъ за переводъ и эту прикрутилъ… Повисла она… Голову на грудь свѣсила, глядитъ на меня… Взялъ я кнутъ да и давай ее полыхать…
Онъ замолчалъ… Мнѣ слышно было, какъ онъ весь дрожитъ.
— Страшно! — зашепталъ онъ, — огонь бы вздуть… покурить… а?.. Семенъ… Что ты молчишь?..
— Тебя слушаю.
— Страшно мнѣ, жутко… Жмись ко мнѣ, Христа ради… Не гнушайся ты моимъ тѣломъ, ради Господа… Человѣкъ я тоже… пожалѣй ты меня, старика!..
— Богъ съ тобой!… развѣ я тобой гнушаюсь… мнѣ самому не легче твоего…
— Горюны мы… лежимъ вотъ, какъ псы… И никому-то мы не нужны… Не жалко насъ никому… Такъ, молъ, имъ и надо… Пьяницы… золотая рота!… О, Господи!… да, справедливо наказуешь… А тяжко… ахъ, тяжко на старости лѣтъ терпѣть!..
Онъ опять замолчалъ… Въ трубѣ жалобно завылъ вѣтеръ… гдѣ-то стукнуло, упало что-то, въ сѣняхъ замяукала кошка.
— Немного проскрипѣла она, — началъ опять шепотомъ старикъ, — извелась, впала въ чахотку, отдала Господу душу о самаго вешняго Миколу…
— Подожди! — перебилъ я его, — за что же, собственно, ты ее билъ?..
— За что? не знаю!… такъ… Стоитъ, бывало, мнѣ ее только разъ ударить, то и пойдетъ, и начну, и начну, удержу нѣтъ! Молчитъ она, а меня пуще злость беретъ… Да что ужъ — вспомнить страшно!..
— Ну, какъ же ты безъ нея жить сталъ? — спросилъ я, видя, что онъ молчитъ.
— Какъ жилъ? пить сталъ, пить и пить, пить и пить…Все, что было въ дому, пропилъ… Нечего стало пропивать, взялъ да домъ съ землей продалъ… за полцѣны, по пьяному дѣлу, кузнецу отдалъ… Съ годъ, должно, на эти деньги гулялъ, а потомъ вышелъ въ чистую… Сталъ нагъ и босъ… Ну, и сталъ жить: день не жрамши, да два такъ, пока не привыкъ… Попадешь, братъ, въ золотую роту, не скоро изъ нея выскочишь, засосетъ она тебя, какъ болото особливо, коли характера нѣтъ, укрѣпиться не можешь… шабашъ! крышка! пиши пропало! Голодная жизнь, за то вольная, ничего ты не робѣешь, — потому нѣтъ у тебя ничего!… Какъ птица, куда задумалъ, туда и полетѣлъ… Я, вотъ, всю Россію исходилъ. Спроси, гдѣ не былъ? На Дону жилъ, въ Соловкахъ жилъ, въ Крыму, на новомъ Аѳонѣ два года выжилъ… Гдѣ только не былъ! всего наглядѣлся, — и голодалъ, и сытъ бывалъ по горло, и битъ былъ, и самъ билъ… всего было, всего! И въ людяхъ живалъ, и топоръ на ногу обувалъ, и топорищемъ подпоясывался…
— Ну, а теперь ты чтожъ думаешь дѣлать?..
— Что дѣлать?.. дѣло мое одно: стрѣлять… издохну, авось, скоро… Охъ-хо, хо!… курнемъ, а?..
— Не охота вертѣть, холодно…
— Какъ-то намъ по утру идти придется?.. ужъ и не знаю, дойду ли!… Объ чемъ думаешь, Сёмъ?.. Ты сказалъ бы хоть что ни на есть?.. Умрешь вѣдь съ тоски такъ-то лежать… Сна нѣтъ… дума… Клопы стали покусывать… Слышишь?..
— Слышу…
— Чиркни-ка спичку… Вотъ небось ихъ высыпало на печку.
Я чиркнулъ спичку. Она вспыхнула и тихо загорѣлась, освѣтивъ слабымъ трепетнымъ свѣтомъ каморку… Испуганные свѣтомъ клопы побѣжали по печкѣ во всѣ стороны… Спичка догорѣла и погасла… Я зажегъ другую и засвѣтилъ лампочку. Множество клоповъ побѣжало по нашей постели, убѣгая отъ свѣта… Старикъ поднялся и сѣлъ, сложивъ ноги калачикомъ. Въ каморкѣ дѣлалось все холоднѣе. Паръ отъ нашего дыханья ходилъ волнами… Лампочка тускло мигала, какъ старая старуха глазомъ. Въ деревянной переборкѣ, часто и назойливо, чикали, точно карманные часы, червячки, точа гнилыя, трухлявыя доски…