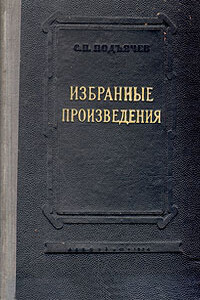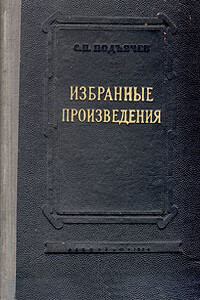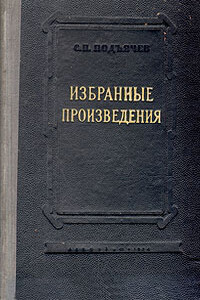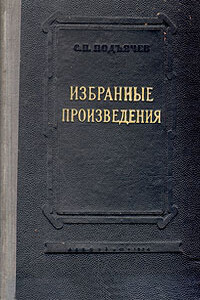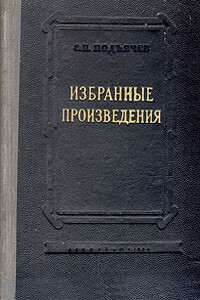Онъ провелъ рукой по лицу и, переведя духъ, началъ опять говорить.
— Да, скоро это случилось: пить я сталъ сильно… развратничать… самъ подлости дѣлаю, а ей запрещаю изъ дому лишній разъ выйти… Денегъ не стало хватать мнѣ… воровать началъ… Разъ цапнулъ сотню цѣлую и попался: увидали… Хозяинъ все не вѣрилъ… Да пришлось повѣрить. — «Подлецъ ты, говоритъ, а я думалъ — честный. Хитрая ты, бестія»… Ну, понятное дѣло, прогналъ меня съ позоромъ въ шею изъ магазина. «Надо бы, говоритъ, тебя подъ судъ, да ужъ чортъ съ тобой, не хочу связываться!»
…Сталъ я мѣста другого искать… Нѣтъ мѣста!… Ей не сказываю… Злость на меня напала: и всю эту злость свою я на нее выливалъ, какъ помои на паршивую собаку…
Однако, стала она догадываться, что безъ дѣловъ я. Иногда спроситъ: «Ну какъ ты съ хозяиномъ»? — А тебѣ какое дѣло? — отвѣчу. Денегъ нѣтъ… что дѣлать? Началъ вещи таскать — закладывать… Заложу, а деньги пропью… и чѣмъ больше пью, тѣмъ мнѣ гаже все… Особливо утромъ… мука!… Пьяный я вообще не покойный, гадкій, страшный. Ухаживаетъ она за мной, раздѣнетъ, уложитъ… «Да, чортъ тебя возьми, кричу ей, съ твоимъ ухаживаньемъ-то!… бей меня! рѣжь! кусай! только не ухаживай, Христа ради!»
…Очумѣлъ… Допился до кошмара… Лежу ночью, вдругъ слышу въ ухо мнѣ кричитъ кто-то: «Степановъ! Степановъ! Степановъ»! — страшно громко… Ужасъ! Наконецъ, нечего стало закладывать… и не на что пить… Вотъ тутъ-то я за нее и принялся, т. е. понимаете, цѣлыхъ почти два года, до самой ея смерти, кормила она меня, поила, обувала и одѣвала… Билъ я ее… охъ, какъ я билъ ее, вспомнить страшно! Смертнымъ боемъ билъ! Да… терпѣла вѣдь… Цѣлый день работаетъ… ночь работаетъ… Надо за квартиру отдать… жрать надо… мало ли, что надо… папиросъ мнѣ надо… водки… безобразіе, однимъ словомъ!
…Ну, ладно… пришелъ конецъ… померла она! Родами померла… Цѣлый мѣсяцъ передъ этимъ нездорова была… извелась вся… высохла… кости да кожа… А я въ это время взялъ, да пальтишко у ней послѣднее пропилъ… Она больная, страдаетъ, а я пьяный… До нищеты дѣло дошло… уголъ грязный, вшивый, съ клопами… вонь!
…Помню, ночью она родила, выкинула мертвую дѣвочку… за три дня до Рождества Христова… Кричала какъ… и я тутъ былъ, да старуха какая-то… померла въ эту же ночь!… Что мнѣ дѣлать? Хоронить не на что… Поцѣловалъ я ее, помню, въ губы холодныя, да потихоньку, какъ воръ, и ушелъ… Ушелъ и ужъ больше не возвращался… Кто ее хоронилъ? гдѣ? какъ? не знаю!
Сначала я съ себя пиджакъ продалъ, пропилъ… И началось съ тѣхъ поръ, и началось! Хитровка… грязь… одурь какая-то… тоска смертная… бродяжничество, куда глаза глядятъ… голодъ… холодъ… тюрьмы… и вотъ, какъ видите, весь тутъ… дошелъ, какъ говорится, до дѣла… больше ужъ идти некуда и нѣтъ, кажись, ничего ужъ такого, чего бы я не перенесъ на своей шкурѣ… Выпита чаша до дна… осталось разбить ее только… Такъ-то!..
Онъ замолчалъ и легъ навзничь, положивъ подъ голову руки. Коптѣвшая и плохо свѣтившая лампочка вдругъ догорѣла и тихо погасла. Въ каморкѣ стало темно… Мы молчали… Мышь заскреблась сильнѣе…
— Догорѣла! — тихо сказалъ онъ и, помолчавъ, добавилъ:- и жизнь наша такъ же вотъ догоритъ и тихо погаснетъ, никому ненужная… Давайте-ка спать, братцы, пора!
— Господи, помилуй насъ грѣшныхъ! — проворчалъ старикъ, укладываясь на полу. — Семенъ, спишь?!
— Нѣтъ.
— А ты спи… Что не спишь? Не думай… брось… спи… идти намъ съ тобой далече…
Утромъ, когда совсѣмъ разсвѣло, солдатъ-надзиратель отперъ дверь, вошелъ въ каморку, взялъ со стола лампочку, обругалъ насъ матерными словами, велѣлъ подмести полъ и вынести «парашку».
Когда онъ ушелъ, мы посмотрѣли другъ на друга, думая одно и то же, кому выносить ее?..
— Я ужъ таскалъ, — сказалъ рыжій послѣ продолжительнаго молчанія, — какъ хотите, чередъ за вами!
— Что-жъ, Семенъ, — сказалъ старикъ, — я постарше тебя… неси… Я бы и снесъ, да у меня, признаться, руки дрожатъ… расплескаешь!… Въ зубы натычутъ… тащи ужъ ты!..
Дѣлать было нечего; я взялъ «парашку» за ручку и потащилъ. Въ корридорѣ попался навстрѣчу какой-то краснорожій, здоровый арестантъ и, увидя меня, сказалъ:
— Волоки, братъ, волоки… дѣло хорошее! все не дарма хлѣбъ-то казенный жрать станешь… го, го, го!
— Что-жъ, давайте съ горя попьемъ хоть кипяточку! — сказалъ рыжій, когда я снова возвратился въ каморку. — Все оно какъ-то повеселѣе на душѣ будетъ.
— Чайку бы теперь! — сказалъ старикъ, — съ хлѣбцемъ… гоже!..
— Чайку! — передразнилъ его рыжій, — чайку дома попьешь… Дома-то тебѣ, небось, рады будутъ… а? ха, ха! Ахъ ты, Магометъ пятнадцатый! Водочки тоже, небось, гоже бы было, а?..
Онъ досталъ изъ-подъ койки большой жестяной, почернѣвшій отъ грязи, чайникъ и пошелъ куда-то за кипяткомъ. Возвратившись съ кипяткомъ, онъ ушелъ опять и скоро принесъ три чайныхъ чашки. Поставя все это на столъ, онъ улыбнулся и сказалъ:
— Чай поданъ… пожалуйте!..
Мы усѣлись пить «чай». Я и старикъ на полу, а рыжій на койкѣ.
— Сахарку бы кусочекъ вотъ эдакой, — сказалъ старикъ, — все бы не такъ жгло… О, Господи!… До чего мы, ребята, сами себя допустить можемъ… А все что? Все простота наша насъ губитъ. Недаромъ пословица-то молвится: «простота хуже воровства».