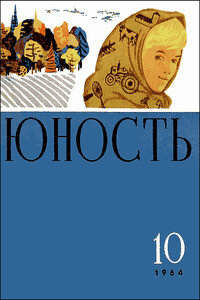Музыка на вокзале - [61]
Мы сели с ним за голубой блестящий столик под полосатым тентом. Официантка принесла пиво.
— Дела мои, кстати, не плохи, — сказал я.
— Не надоело? — спросил он. — В школе — за партой, в институте — за партой, сейчас — за партой. Свободы не хочется?
— У меня свободы не меньше, чем у тебя. И свободы и простора для экспериментов. И всего прочего.
Он снял очки и посмотрел на меня в упор. Странно светлыми, прозрачными казались его глаза на коричневом, ровно и крепко обожженном солнцем лице.
— У меня нет простора для экспериментов, — сказал он. — Эксперименты стоят миллионы рублей. У меня есть только одно право — делать наверняка.
Он говорил серьезно, в тоне его звучало превосходство рабочего над школяром… И слова его чем-то задели меня.
— А впрочем, Серега, — сказал он добродушно, — каждому свое… Твое дело, наверное, великолепно, но мне этого не понять.
— Ну и черт с тобой, — сказал я. — Расскажи лучше что-нибудь о своей Средней Азии.
— Еще успею, впереди двадцать минут. — Он беспокойно посмотрел на вокзальные часы. И добавил: — У нас с тобой еще уйма времени.
И в словах его опять проскользнула какая-то тревога.
Мы сидели молча… Резким ослиным голосом, точно проклиная кого-то, закричал паровоз. И от этого крика мне стало не по себе, захотелось вдруг сорваться и тоже — в дорогу. Всегда, когда я слышал крик паровоза, мне хотелось в дорогу. Но вот этот крик гас, затихал, а я оставался на перроне, и никакая дорога не предстояла впереди, а просто я опять кого-то провожал…
— А хорошее в Москве пиво, — с неожиданной грустью сказал он. — Соскучился я по «Жигулевскому».
— В Москве еще кое-что есть, — резонерским голосом сказал я.
— Да что ты?! — Он сделал большие глаза.
— Ей-богу. Вот не знаю, что там у вас есть?
— У нас там есть такое, — серьезно сказал он, — что тебе и не снилось.
— Маки расцветают в пустыне? — усмехнулся я.
— И маки расцветают в пустыне, — сказал он. — И заводы расцветают в пустыне. И многое еще расцветает в пустыне.
— Ты поэт, — сказал я. — Ты — поэт Средней Азии. Ты — Алишер Навои.
Я ожидал, что он отпикируется, но он оставил эту фразу без внимания. Он все чаще и чаще, все напряженней смотрел на выход из тоннеля. Оттуда с какой-то удивительной равномерностью вытекала толпа. И уже на перроне этот ровный поток разбивался, приостанавливался; люди как-то сразу застопоривали, словно осекались на бегу, растерянно и беспокойно смотрели на составы, будто те вот-вот уйдут, вопреки расписанию, и спрашивали, спрашивали: «Где? Когда? С какой стороны?» Спрашивали у контролеров и у таких же, как они, пассажиров и даже у мороженщиц, с превосходством наблюдавших за беспомощной и суетливой толпой.
А Сашка Локтев смотрел на пассажиров и ждал и не спрашивал: потому что ни контролеры, ни мороженщицы, ни даже справочное бюро не могли сказать — придет ли Лена.
Мы допивали холодное пиво, которое казалось горьким, потому что мы давно не пили пива и потому что к его горечи примешивалась странная, неуловимая горечь этой короткой встречи и этого ожидания. Сашка закурил, прищурился, посмотрел на меня и вдруг сказал:
— Жениться тебе, брат, надо… Скоро ты профессором будешь. Пора тебе, брат, жениться…
— Ну, а тебе, главный инженер? — в тон ему спросил я. — Тебе-то вообще необходимо.
— Мне это не подходит. Мне они быстро надоедают.
— Кто — они? — сказал я.
— Женщины.
— Все надоедают? — спросил я.
— Нет, не все, — сказал он.
К нам подошла официантка, мы оба потянулись за деньгами, но он поморщился и недовольно буркнул:
— Хватит студента из себя корчить. Может, в складчину сложимся?
Мы встали, пошли к поезду.
Темнолицые приземистые люди в тюбетейках тащили в вагоны трехколесные детские велосипеды и электрополотеры, носильщики сгибались под тяжестью картонных ящиков с телевизорами; поезд уходил далеко, туда, где не хватает воды, детских велосипедов, электрополотеров. И перрон что-то бормотал, что-то гудел, бросал отрывистые гортанные слова и волновался, потому что на перроне стояли провожающие, а они всегда волнуются. И все бежали, спешили, шумели, и только поезд был неподвижен, молчалив, будто он стоял здесь уже вечность и будет стоять еще столько же, будто он не рванется вперед, чтобы мгновенно оставить позади себя этот беспокойный перрон. Паровоз молчал и только иногда, изнемогая от человеческой суеты, шумно выпускал пар, точно отдувался.
«Надо что-то сказать Сашке, — думал я. — Надо отвлечь его от всяких мыслей. Ясно, что она не придет. Теперь уже совершенно ясно».
— Ты пиши, Сашка, — говорил я ему. — Ты никогда почему-то не пишешь, бродяга ты этакий. Мне же интересно знать, что с тобой происходит… Куда тебя швырнет жизнь. И потом, я хочу проследить тот момент, когда ты окончательно образумишься.
— Черта с два, — сказал Сашка и улыбнулся.
Улыбка у него была хорошая, хитровато-озорная.
Но вдруг, как обвал, на нас хлынула музыка. Многопудовая, жестяная, могучая вокзальная музыка. И, подавленные ею, мы оба замолчали. Но это было разное молчание. У него — молчание ожидания, ожидания, которое может оказаться напрасным. По-моему, он и сам уже понял это. Ну, а мое молчание не в счет. Я молчал из солидарности.

Биографическая повесть известного писателя и сценариста Владимира Амлинского об отце, ученом-генетике И.Е. Амлинском.
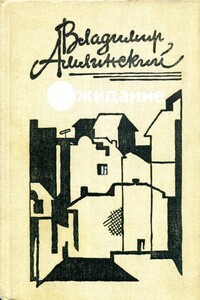
В книгу «Ожидание» вошли наиболее известные произведения В. Амлинского, посвященные нашим современникам — их жизни со сложными проблемами любви, товарищества, отношения к труду и ответственностью перед обществом.

Этот рассказ - обычная бытовая сценка из жизни конца 50-х - начала 60-х прошлого века. Читатель может почувствовать попаданцем во времена, когда не было интернета и когда люди мечтали прочесть имеющиеся в наличии газеты, начиная от самой скучной - и до "Комсомолки". :) .
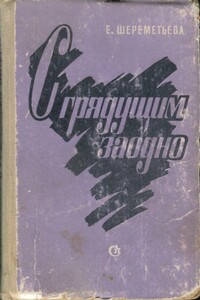
Годы гражданской войны — светлое и драматическое время острейшей борьбы за становление молодой Страны Советов. Значительность и масштаб событий, их влияние на жизнь всего мира и каждого отдельного человека, особенно в нашей стране, трудно охватить, невозможно исчерпать ни историкам, ни литераторам. Много написано об этих годах, но еще больше осталось нерассказанного о них, интересного и нужного сегодняшним и завтрашним строителям будущего. Периоды великих бурь непосредственно и с необычайной силой отражаются на человеческих судьбах — проявляют скрытые прежде качества людей, обнажают противоречия, обостряют чувства; и меняются люди, их отношения, взгляды и мораль. Автор — современник грозовых лет — рассказывает о виденном и пережитом, о людях, с которыми так или иначе столкнули те годы. Противоречивыми и сложными были пути многих честных представителей интеллигенции, мучительно и страстно искавших свое место в расколовшемся мире. В центре повествования — студентка университета Виктория Вяземская (о детстве ее рассказывает книга «Вступление в жизнь», которая была издана в 1946 году). Осенью 1917 года Виктория с матерью приезжает из Москвы в губернский город Западной Сибири. Девушка еще не оправилась после смерти тетки, сестры отца, которая ее воспитала.

Клая, главная героиня книги, — девушка образованная, эрудированная, с отличным чувством стиля и с большим чувством юмора. Знает толк в интересных людях, больших деньгах, хороших вещах, культовых местах и событиях. С ней вы проникнете в тайный мир русских «дорогих» клиентов. Клая одинаково легко и непринужденно рассказывает, как проходят самые громкие тусовки на Куршевеле и в Монте-Карло, как протекают «тяжелые» будни олигархов и о том, почему меняется курс доллара, не забывает о любви и простых человеческих радостях.
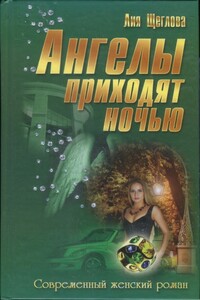
Как может отнестись нормальная девушка к тому, кто постоянно попадается на дороге, лезет в ее жизнь и навязывает свою помощь? Может, он просто манипулирует ею в каких-то своих целях? А если нет? Тогда еще подозрительней. Кругом полно маньяков и всяких опасных личностей. Не ангел же он, в самом деле… Ведь разве можно любить ангела?

В центре повествования романа Язмурада Мамедиева «Родная земля» — типичное туркменское село в первые годы коллективизации, когда с одной стороны уже полным ходом шло на древней туркменской земле колхозное строительство, а с другой — баи, ишаны и верные им люди по-прежнему вынашивали планы возврата к старому. Враги новой жизни были сильны и коварны. Они пускали в ход всё: и угрозы, и клевету, и оружие, и подкупы. Они судорожно цеплялись за обломки старого, насквозь прогнившего строя. Нелегко героям романа, простым чабанам, найти верный путь в этом водовороте жизни.

Роман и новелла под одной обложкой, завершение трилогии Филипа Рота о писателе Натане Цукермане, альтер эго автора. «Урок анатомии» — одна из самых сильных книг Рота, написанная с блеском и юмором история загадочной болезни знаменитого Цукермана. Одурманенный болью, лекарствами, алкоголем и наркотиками, он больше не может писать. Не герои ли его собственных произведений наслали на него порчу? А может, таинственный недуг — просто кризис среднего возраста? «Пражская оргия» — яркий финальный аккорд литературного сериала.