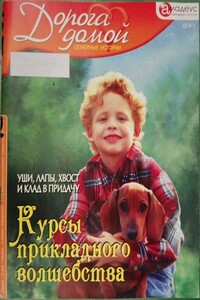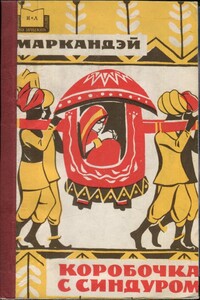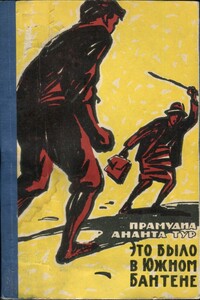«Видя нерешительность эсэсмана[1], Гесс схватил за ноги маленького ребенка и бросил его живым в огонь. Следуя примеру Гесса, другие эсэсманы тоже стали бросать детей живыми в огонь…»
(Процесс Рудольфа Гесса, коменданта лагеря Освенцим. Допрос свидетелей. — Материалы Главной комиссии по расследованию гитлеровских преступлений в Польше.)
«Вчера на Кроумлин Роуд убили мою двоюродную сестру… Она шла сказать матери, что выходит замуж. Она умерла не сразу, а лишь в больнице… Сестру хоронят в четверг…»
(Из дневника белфастского школьника. — «Литературная газета» от 5 июля 1972 г.)
«ПРОКУРОР: Где были грудные дети, когда вы начали стрелять в них?!
СВИДЕТЕЛЬ: На руках у матерей».
(Процесс лейтенанта Полли, командовавшего расправой над жителями южновьетнамской деревни Сонгми. Допрос свидетелей. — «Правда» от 5 марта 1971 г.)
Листки из записной книжки с алфавитом. На них совсем еще детским почерком, выписанные большими буквами, громоздятся неровно фразы:
«Женя умерла… Бабушка умерла… Лёка… Мама…»
«…Савичевы умерли… умерли все… осталась одна Таня…» Это записи Тани Савичевой — ленинградской девочки, блокадницы. Как документ обвинения, они фигурировали на Нюрнбергском процессе.
«Нет, я не гулял на улице. Я сидел дома, в комнате, вдруг прилетели самолеты, и они бросили на меня две бомбы, но только стена упала, а я крепко прижался в углу…»
(Из рассказа семилетнего вьетнамского мальчика, доставленного в госпиталь после налета американских бомбардировщиков. — «Правда» от 3 октября 1972 г.)
Запрокинуто вверх лицо ребенка. Темные, круглые глаза его доверчиво смотрят ввысь. А оттуда, из высоты, наплывают на детское это лицо тяжелые бомбардировщики. И трассирующие пули роятся вокруг него… Это только фотомонтаж. Из западноберлинской газеты «Вархайт».
Впрочем, то, о чем я пишу здесь, это тоже только монтаж. Сведены воедино записи разных лет — фрагменты событий, судеб… А сквозь это — необъемлемость темы, суть которой в сочетании слов: «война и дети».
И еще одна фотография — фотография, не фотомонтаж. Врезалась в память как изобразительное решение все той же темы.
Руины варшавских улиц. Сожженные дома. Обвалы. Щебень и кирпич. Груды золы и пепла. На переднем плане ребенок — мальчик, полосатая маечка, коротенькие штанишки. Подстриженный хохолок… Весь он еще ухоженный, еще сохранивший следы домашности. Уперся руками в колени, подбородок в ладонях — сжался! Примостился словно на островке на развалинах своего дома. А вокруг бушует война…
Мальчик подлинный с именем и фамилией: варшавянин Рысёк Паевский. Фотографию эту я видела в альбоме, что недавно вышел в Варшаве под названьем «Война и дети».
Фотографии для альбома собирались из разных мест: из захваченных фашистских архивов, из личных коллекций «победителей» — гестаповца Шмидта, например, и из… «частных собраний» — так сказано в предисловии.
На каждой фотографии — дети. Успевшие позабыть, что бывает на свете добро и смех. И отчий дом. И тепло. И сытость…
Недетская обреченность лиц. Глаза, из которых многолико смотрит война… Листаешь страницы, а в горле крик!
Никогда не знаешь, как нахлынет на тебя то, что принято в обиходе называть темой. Завладеет мыслями. Заполонит душу.
То, о чем я пишу здесь, началось для меня, как тема, со случайно услышанного рассказа о судьбе белорусской девочки Людочки Безлюдовой.
Впрочем, это, наверное, не совсем так. И началось все это гораздо раньше, множество лет назад, июльской ночью сорок первого года…
Той ночью Москву бомбили. Под рев сирены я выбежала из дому с полусонной дочкой на руках. Где-то рядом, видимо в рощице, что за домом — жили мы тогда под. Москвой, — ухали тяжело зенитки.
«Ложи-ись! — заметив нас, закричал дежурный. — Осколками поранит»…
В чьей-то недорытой и непокрытой щели-убежище мы с дочерью оказались лишь вдвоем.
Помню зябкую сырость — ни на что не похожий запах свежевскопанной, развороченной земли. Помню небо над нами — иссеченное лучами прожекторов. И — огненное, клубящееся в той стороне, где была Москва.
Помню теплую тяжесть детского тельца на моих руках, испуганно жмущегося ко мне, беззащитного тельца.
Кто знает, может, начиналось все это еще той июльскою ночью и таилось все эти годы, ожидая своего часа. Ожидая толчка, импульса, чтоб, поднявшись из каких-то глубин памяти, обернуться болью, и гневом, и волей к действию. То есть, иными словами: стать темой…
А о белорусской девочке я впервые услышала в дни подготовки ко Всемирному женскому конгрессу. Женщины-матери всей Земли должны были съехаться в Москву.
Помните то московское лето — разноцветные процессии женщин по утрам у ворот Кремля? Ослепительно яркие канги Африки и нежные индийские сари на московских улицах…
Помните эту многоязычно выплескивавшуюся сквозь стены Кремля тревогу за детей всего мира? За их будущее.