Musica mundana и русская общественность. Цикл статей о творчестве Александра Блока - [29]
Стремлением лирического героя приобщиться к «мировой музыке», слить свой «голос» с «мировыми скрипками» отмечено стихотворение 1910 года «Голоса скрипок», посвященное Евгению Иванову:
[Блок III, 129-130]
Как отмечал еще в начале 1920-х годов В. М. Жирмунский, текст Блока, в котором «мировой оркестр», музыкально звучащий универсум противопоставлен «отдельной песне торопливой», «визгливому» индивидуалистическому «смычку», дисгармонически врывающемуся «в отчизну скрипок мировых» (см. черновой вариант), отсылает к тютчевскому «Певучесть есть в морских волнах», где человек предстает отчужденным от «созвучья полного в природе», от «общего хора», согласного пения моря [Жирмунский 1977: 226]. Блок совершенно верно опознает в стихотворении Тютчева топику «мировой гармонии»[171], musica mundana, отождествляя «мировую музыку», «мировой оркестр» с музыкой гармонической природы.
Вернемся к статье «О реалистах». В приведенном выше фрагменте заметна лексика Вячеслава Иванова[172] – ср., например, реминисценцию «Эллинской религии страдающего бога», включенную Блоком в статью о поэте, написанную еще в 1905 году:
…мы, позднее племя, мечтаем… о «большом искусстве», призванном сменить единственно доступное нам малое, личное, случайное, рассчитанное на постижение и миросозерцание немногих, оторванных и отъединенных [Иванов 1904: 133], см. [Блок VII, 8].
Неоднократно отмечалось, что появление целого ряда мотивов «второго тома» стало результатом воздействия общественно-политической ситуации, русско-японской войны и революции 1905 года, поставивших Блока перед необходимостью вписать общественную проблематику в тексты и литературную позицию. Благодаря этому в 1906-1907 годах, как уже говорилось (см. гл. «Фортуна»), в творчестве поэта, стремившегося, выйти на «площадь» и «улицу», чрезвычайно значимую роль начинают играть мотивы «судьбы» и «пути», связывавшиеся в данной ситуации с «общественностью». Здесь возникает противопоставление «народа и интеллигенции» и соответственно критическое отношение к «интеллигенции», а также апологетическое – к «народу».
В этом контексте особое значение, по-видимому, приобретало чтение Блоком текстов Вячеслава Иванова, исходившего из представлений о «расколе» «поэта» и «народа» и настаивавшего на необходимости снятия этого разрыва, на возвращении «уединенного» творчества, предназначенного «для немногих», «оторванных и отъединенных» от «тела народного», к «большому всенародному искусству». В статье об Иванове Блок особо отметил славянофильский характер его творчества ([Блок VII, 10], см. также [Тарановский 1981: 295]), вписав его поэзию в «национальную» линию русской лирики, представленную в тексте Блока Хомяковым, Тютчевым и Владимиром Соловьевым; иными словами, влияние текстов Иванова связывалось Блоком с обращением к «национальной» тематике. Причем, что немаловажно для семантики блоковских текстов, именно в статьях Иванова стихотворения Тютчева, не относящиеся к собственно политической поэзии, интерпретируются нередко в «национальном» ключе; см., например, построенное на реминисценциях «Поэта и Черни» рассуждение в статье Блока «Творчество Вячеслава Иванова»:
Мы должны взглянуть любовно на роковой раскол «поэта и черни». Никто уж не станет подражать народной поэзии, как тогда подражали Гомеру. Мы сознали, что «род» не властен и наступило раздолье «вида» и «индивида». <…> Поэт, идущий по пути символизма, есть бессознательный орган народного воспоминания. «По мере того, как бледнеют и исчезают следы поздних воздействий его отеснявшей среды, яснеет и определяется в изначальном его „наследье родовое“». Так искупается отчуждение поэта от народной стихии: страдательный путь символизма есть «погружение в стихию фольклора», где «поэт» и «чернь» вновь познают друг друга» [Блок VII, 8-9].
Тютчевское «наследье родовое» («Святая ночь на небосклон взошла») оказывается «фольклором», обращение к которому позволит поэту устранить роковое отчуждение от народа, в результате чего «природно-космическая», «натурфилософская» и т. п. образность приобретает «общественную» семантику.
След конструктов Вячеслава Иванова в приведенной цитате из статьи «О реалистах»[173] неслучаен: выстраивая свою концепцию взаимоотношений «интеллигенции и народа», Блок артикулирует представление об индивидуалистической «единичности», парциальности, а также «оторванности» «души» интеллигента (и, соответственно, на тот момент – «мистиков и символистов») от «народа», понятого как «общее» и «целое». При этом он прибегает к традиционной топике мировой гармонии, противопоставляя «голос одного», музыку «оторванной» души «звездного» интеллигента и «мировую музыку», соотнесенную с народным гармоническим целым, с «голосом толпы», – как бы погружая мотивы «мировой музыки», традиционной природно-космической гармонии в общественно-политический контекст. Описание народной души в музыкальных терминах отчетливо видно и в первой рецензии Блока на «Венок» Брюсова (январь 1906 года), где фигура автора подается в контексте построений Иванова о снятии разрыва между «поэтом» и «народом»

Вторая книга о сказках продолжает тему, поднятую в «Страшных немецких сказках»: кем были в действительности сказочные чудовища? Сказки Дании, Швеции, Норвегии и Исландии прошли литературную обработку и утратили черты древнего ужаса. Тем не менее в них живут и действуют весьма колоритные персонажи. Является ли сказочный тролль родственником горного и лесного великанов или следует искать его родовое гнездо в могильных курганах и морских глубинах? Кто в старину устраивал ночные пляски в подземных чертогах? Зачем Снежной королеве понадобилось два зеркала? Кем заселены скандинавские болота и облик какого существа проступает сквозь стелющийся над водой туман? Поиски ответов на эти вопросы сопровождаются экскурсами в патетический мир древнескандинавской прозы и поэзии и в курьезный – простонародных легенд и анекдотов.

В книге члена Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых популярно изложена новая, шокирующая гипотеза о художественном смысле «Моцарта и Сальери» А. С. Пушкина и ее предвестия, обнаруженные автором в работах других пушкинистов. Попутно дана оригинальная трактовка сверхсюжера цикла маленьких трагедий.
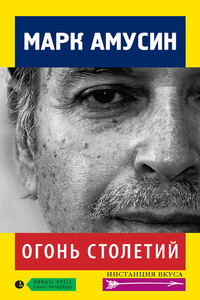
Новый сборник статей критика и литературоведа Марка Амусина «Огонь столетий» охватывает широкий спектр имен и явлений современной – и не только – литературы.Книга состоит из трех частей. Первая представляет собой серию портретов видных российских прозаиков советского и постсоветского периодов (от Юрия Трифонова до Дмитрия Быкова), с прибавлением юбилейного очерка об Александре Герцене и обзора литературных отображений «революции 90-х». Во второй части анализируется диалектика сохранения классических традиций и их преодоления в работе ленинградско-петербургских прозаиков второй половины прошлого – начала нынешнего веков.

Что мешает художнику написать картину, писателю создать роман, режиссеру — снять фильм, ученому — закончить монографию? Что мешает нам перестать искать для себя оправдания и наконец-то начать заниматься спортом и правильно питаться, выучить иностранный язык, получить водительские права? Внутреннее Сопротивление. Его голос маскируется под голос разума. Оно обманывает нас, пускается на любые уловки, лишь бы уговорить нас не браться за дело и отложить его на какое-то время (пока не будешь лучше себя чувствовать, пока не разберешься с «накопившимися делами» и прочее в таком духе)

В настоящее издание вошли литературоведческие труды известного литовского поэта, филолога, переводчика, эссеиста Томаса Венцлова: сборники «Статьи о русской литературе», «Статьи о Бродском», «Статьи разных лет». Читатель найдет в книге исследования автора, посвященные творчеству Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, поэтов XX века: Каролины Павловой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Владислава Ходасевича, Владимира Корвина-Пиотровского и др. Заключительную часть книги составляет сборник «Неустойчивое равновесие: Восемь русских поэтических текстов» (развивающий идеи и методы Ю. М. Лотмана), докторская диссертация автора, защищенная им в Йельском университете (США) в 1985 году.

Книга «Реализм Гоголя» создавалась Г. А. Гуковским в 1946–1949 годах. Работа над нею не была завершена покойным автором. В частности, из задуманной большой главы или даже отдельного тома о «Мертвых душах» написан лишь вводный раздел.Настоящая книга должна была, по замыслу Г. А. Гуковского, явиться частью его большого, рассчитанного на несколько томов, труда, посвященного развитию реалистического стиля в русской литературе XIX–XX веков. Она продолжает написанные им ранее работы о Пушкине («Пушкин и русские романтики», Саратов, 1946, и «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М., Гослитиздат, 1957)

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.