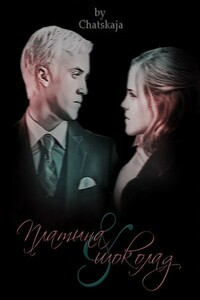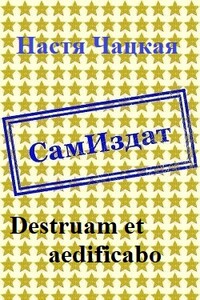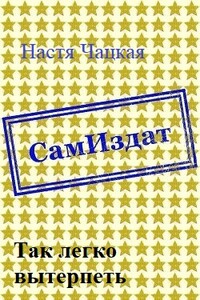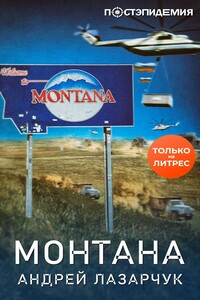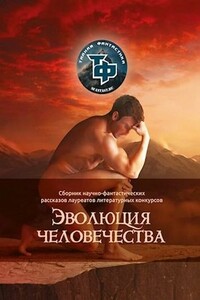И ещё одно: он только что прокусил щёку.
— Поздравляю, — говорит, сглатывая металлическую слюну.
— Спасибо, — отвечает Хэ Тянь. И смотрит, смотрит, смотрит в глаза. Гнида.
— Гуань, не будь таким букой хотя бы сегодня! — вопит Цзянь, — обними своего друга! — И резко затыкается, словно получает тычок от Чжаня.
Два придурка.
— Ну же! — со мехом подбадривает кто-то сзади.
И под пристальным взглядом Рыжий сжимает челюсти, делает шаг вперед. Деревянные ноги практически отказывают, когда руки Хэ Тяня на миг застывают, а затем обхватывают его в ответ.
Рыжий отключается.
Он чувствует: мозг прекращает функционировать. Потому что он каменеет — весь, и онемение это начинается в груди, с сердца. А потом разливается по плечам и бёдрам.
Широкая ладонь хлопает его между лопаток.
Несильно. Так, как хлопают старых друзей, которых видели не так уж давно, но всё равно рады видеть сегодня, завтра. Ещё через шесть лет. Друзей, с которыми когда-то заканчивали одну школу, когда-то играли на одной бейсбольной площадке. Курили одну сигарету. Друзей, чьи волосы сжимали в кулаке, когда задыхались приоткрытыми губами в приоткрытые губы, и шептали, шептали, шептали что-то о «никогда», «всегда», «ненавижу тебя», «клянусь», «пожалуйста».
Хэ Тянь похлопывает ладонью по спине ещё раз. Почти попадает в такт ударов сердца. Рыжий просто закрывает глаза.
Они друзья.
Которые знают, как громко стучит мяч по баскетбольной площадке в три часа ночи. Как сильно пахнет травой, если упасть на неё спиной и смотреть на звёзды из-за плеча лежащего на тебе Хэ Тяня. Знают, как больно целовать разбитыми губами разбитые губы.
Они знают слишком много. Рыжему кажется, что однажды ему пришлось убить себя, так много он когда-то узнал. Например — откуда этот шрам у Хэ Тяня за ухом, сколько поцелуев нужно, чтобы у него сбилось дыхание (один), какого цвета его глаза спросонья. И, да, иногда нужно уничтожить человека, чтобы он сумел жить дальше.
А иногда даже это не помогает.
Рыжий не помнит, как он разжимает руки.
Но помнит тремор в пальцах Хэ Тяня, который с быстрой и широкой улыбкой хлопает его по шее, как друга, с которым было бы здорово повидаться ещё. Но если не выйдет — это тоже ничего. Так даже лучше — не увидеться больше никогда.
Руки Хэ Тяня ледяные.
Руки Хэ Тяня дрожат.
Рыжий поворачивается к Чань Си. Она сияет — в её глазах свет. Спокойный и безмятежный. Свет — и что-то ещё. Тень, крошечный элемент, отголосок догадки. Она улыбается и мягко жмёт его ладонь.
Её глаза говорят: «всё в порядке».
А она говорит:
— Он очень много о тебе рассказывает.
И в голосе… это. Какой-то ингредиент, который может испортить идеальное, завершённое десертной вишенкой блюдо. Она не зла, вовсе нет. Просто внутри слышна слабая, практически несуществующая тоска.
Рыжий смотрит на неё и тихо отвечает:
— Жаль. О тебе я не слышал ни слова.
…Белая кожа на белой простыни — что может быть идеальнее. Будто каждый кусок мозаики становится на место, когда он проводит руками по мягкой коже плеч. Ключицы. Выступающие косточки и мягкие изгибы.
Рыжие волосы, запах свежего постельного белья, горячие руки и дрожащие выдохи.
Хэ Тянь плотно закрывает глаза и зарывается лицом в её шею, двигаясь в ней правильно, привычно, чудесно, хорошо. Он обхватывает её руками — он знает её тело до самых кончиков пальцев. Он так долго её искал, что почти отчаялся, а она — вот она. Правильная, чудесная. Хорошая.
Он поднимает голову и смотрит в её лицо.
Хочет сказать: «посмотри на меня», но она будто знает — открывает глаза. В них — что-то. Что-то, от чего становится страшно. Оно всегда там, всегда с тех пор, как она узнала его. Понимание. Жалость. Молчаливая, светлая грусть, от которой внутри вспухает ярость.
Он впитывает в себя совершенный цвет её глаз — то ли золото, то ли солнечный свет, скачущий по стене. Длинные рыжие ресницы. Смешно нахмуренные брови. Волосы… рыжие… чёрт. Чёрт
Хэ Тянь обхватывает её скулы руками и движется, движется, движется.
Зло рычит:
— Я люблю тебя. Я люблю тебя, я люблю тебя.
А она улыбается.
Она гладит его висок.
Она хочет сказать: «он знает». Но почему-то молчит.
…Однажды Рыжий пробивает себе ладонь отцовским шуруповертом. В двадцать шесть он понимает: не так уж это и больно.