Московский Ришелье. Федор Никитич - [174]
— Поверил в затейливые доводы матушки? — осторожно наступал Филарет.
Михаил подавленно молчал.
— Как пойти против родительской воли? Или я тебе не родитель?
— Виноват, государь-батюшка. Отпусти мне мою вину. Нет у меня воли прекословить матушке.
— Грозилась проклятием? — строго спросил Филарет.
В лице Михаила что-то дрогнуло. Филарет сокрушённо опустил голову. Он видел, что сын его устал от злобной суеты Салтыковых, от борьбы за невесту. Его мягкая натура хотела покоя и мира. А покоя не было, и этим Марья Хлопова стала ему немилой.
Филарет понял, что Михаилу надо искать другую невесту. Но с Марфой у него будет разговор особый. Ей лишь спусти — снова оседлает и его и сына.
Неожиданно Марфа сама пришла к нему. Деспоты по натуре обычно отличаются нетерпеливым нравом, а может быть, она не была уверена в своей окончательной победе.
Филарет сидел в своём кабинете и читал письмо из Казанской епархии, когда вошла Марфа.
— Садись, матушка, — кивнул он.
Отложив в сторону письмо, он добавил:
— Знаю, зачем пожаловала. Нелегко идти грозой на собственного сына, тем более на царя.
От этого укора Марфа зло прищурила глаза.
— Это ты навёл грозу на всю державу. В галичских деревнях холопы умирают с голоду, а недоимки тебе плати. Когда это было, чтобы налоги брали даже с сохи? За ведро воды, принесённое с речки, плати, за поваленное дерево — опять же прибавка к пошлине. Зато ярыжкам да целовальникам раздолье.
В злобе своей Марфа всё смешала: и правду, и прямую ложь. Филарет слушал её в немом изумлении, потому напомнил ей, что все решения принимались собором. Так было принято установление нового перечня земель, обременённых налогами. Надо было собрать недоимки и дать укорот чиновникам за злоупотребление властью. Впервые была сделана правильная государственная роспись доходов и расходов. Или Марфе неведомо это? Или она не знает, сколь бедна государственная казна?
— Дивлюсь тебе, Марфа. Или ты запамятовала, сколь суров был сын твой царь Михаил, когда дело шло о недоимках? И не ты ли сама повелела связать верёвками и кинуть в холодный овин холопа, который не осилил возложенное на его двор тягло? Мне сказывали, что того холопа спасли от смерти бродяги, услышавшие стоны из овина. Так в чём же ты хочешь меня обвинить? Да, я бывал суров, но бывал и милосерден. Спроси о том галицких крестьян... «Зачем я об этом? Словно оправдываюсь перед ней... Ужели она взяла надо мной такую силу?» — мелькнуло в уме Филарета. Марфа тут же поймала его на слове.
— Вот о ближних наших крестьянах я и хочу спросить тебя. Не ты ли наложил запрет на их обельные[36] грамоты?
— О каком запрете ты говоришь, Марфа?
— Вот и выходит, что не у меня, а у тебя короткая память...
Он терпеливо молчал, зная её манеру «тянуть душу».
— Да, ты наложил запрет на обельную грамоту для семьи домнинского старосты Ивана Сусанина.
Филарет изумлённо слушал.
— Ну, что молчишь? Теперь моя очередь сказать: «Дивлюсь тебе, Филарет». Или ты запамятовал, что Иван Сусанин жизнь положил, чтобы отвести ворогов от Ипатьевского монастыря, где укрывалась я с Михаилом?
Так изматывать душу ложными словесами могла только Марфа.
— То дело давнее, и меня на Москве не было. Что же ты сама не порадела семье домнинского старосты? Мне ведомо, что она обращалась к тебе, уповая на твоё доброе сердце.
Марфа несколько смутилась. Укоряя его, она не знала, что ему известно о хлопотах семьи Сусанина. Филарет понял, что она попала впросак, и решил наступать дальше.
— Или ты не дала обельную грамоту крестьянам Тарутиным после поставления сына на царство за то, что они в дни твоей ссылки были добры к тебе? Или это больше заслуги Сусанина перед отчизной? Тарутины ничем не жертвовали, а Сусанин отдал свою жизнь за нашего сына... И ещё спрошу тебя: разве тебе неведомо, что зять Сусанина, Собинин, обратился с просьбой о выдаче ему обельной грамоты вдругорядь — после моего возвращения из плена?
Марфа некоторое время молчала. Ей было неприятно, что Филарет как бы принизил её, упрекнув за самоличное решение поставить Тарутиных выше Сусанина. Но она скоро нашлась:
— Так Тарутины живут одной семьёй, у Сусанина же сын помер, а дочь — отрезанный ломоть.
— Не о том говоришь, Марфа. Заслуга Сусанина перед державой столь велика, что имя его прославится в веках. А про Тарутиных никто и ведать не будет. Вот почему я дал зятю и дочери Сусанина обельную грамоту.
— То не ты дал, а царь.
— У тебя, Марфа, память стала слабеть. Ты сегодня не помнишь, что говорила вчера. Так вот: грамоту семье Сусанина царь дал по моему слову. Да, по моему слову. Ты же молчала. И ещё должен сказать тебе, ибо мы с тобой об этом ни разу не толковали: без меня ты теснила достойных людей отечества. Ты князя-героя Дмитрия Пожарского принизила перед своими племянниками, которые ничего не сделали для страны. О дочери Сусанина сама поведала, что она отрезанный ломоть. Ужели не понимаешь, что внимание к его дочери — это память о её незабвенном отце? И это ещё не всё. Умолчу ли? Ты едва не погубила невинно человека: поддержала происки каверзников против архимандрита Троице-Сергиевой лавры Дионисия.

Полковник конных войск Кирилл Нарышкин летом 1669 года привёз дочь Наталью в Москву к своему другу Артамону Матвееву. В его доме девушка осталась жить. Здесь и произошла поистине судьбоносная для Российского государства встреча восемнадцатилетней Натальи с царём-вдовцом Алексеем Михайловичем: вскоре состоялась их свадьба, а через год на свет появился младенец — будущий император Пётр Великий... Новый роман современной писательницы Т. Наполовой рассказывает о жизни и судьбе второй супруги царя Алексея Михайловича, матери Петра Великого, Натальи Кирилловны Нарышкиной (1651—1694).
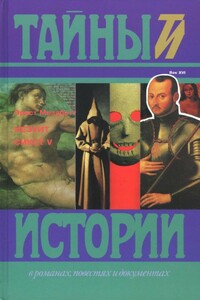
Итальянский писатель XIX века Эрнст Мезаботт — признанный мастер исторической прозы. В предлагаемый читателю сборник включены два его лучших романа. Это «Иезуит» — произведение, в котором автор создает яркие, неповторимые образы Игнатия Лойолы, французского короля Франциска I и его фаворитки Дианы де Пуатье, и «Сикст V» — роман о человеке трагической и противоречивой судьбы, выходце из народа папе Сиксте V.
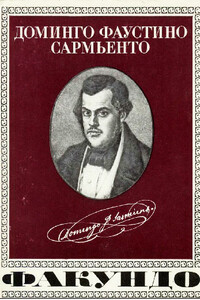
Жизнеописание Хуана Факундо Кироги — произведение смешанного жанра, все сошлось в нем — политика, философия, этнография, история, культурология и художественное начало, но не рядоположенное, а сплавленное в такое произведение, которое, по формальным признакам не являясь художественным творчеством, является таковым по сути, потому что оно дает нам то, чего мы ждем от искусства и что доступно только искусству,— образную полноту мира, образ действительности, который соединяет в это высшее единство все аспекты и планы книги, подобно тому как сплавляет реальная жизнь в единство все стороны бытия.

В очередном выпуске серии «Polaris» — первое переиздание забытой повести художника, писателя и искусствоведа Д. А. Пахомова (1872–1924) «Первый художник». Не претендуя на научную достоверность, автор на примере приключений смелого охотника, художника и жреца Кремня показывает в ней развитие художественного творчества людей каменного века. Именно искусство, как утверждается в книге, стало движущей силой прогресса, социальной организации и, наконец, религиозных представлений первобытного общества.
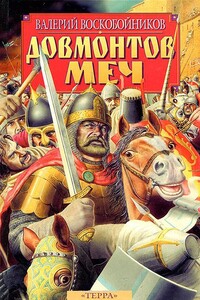
Никогда прежде иноземный князь, не из Рюриковичей, не садился править в Пскове. Но в лето 1266 года не нашли псковичи достойного претендента на Руси. Вот и призвали опального литовского князя Довмонта с дружиною. И не ошиблись. Много раз ратное мастерство и умелая политика князя спасали город от врагов. Немало захватчиков полегло на псковских рубежах, прежде чем отучил их Довмонт в этих землях добычу искать. Долгими годами спокойствия и процветания северного края отплатил литовский князь своей новой родине.
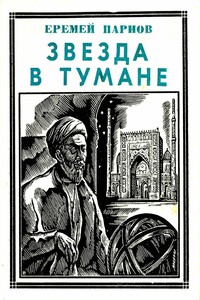
Пятнадцатилетний Мухаммед-Тарагай стал правителем Самарканда, а после смерти своего отца Шахруха сделался главой династии тимуридов. Сорок лет правил Улугбек Самаркандом; редко воевал, не облагал народ непосильными налогами. Он заботился о процветании ремесел и торговли, любил поэзию. Но в мировую историю этот просвещенный и гуманный правитель вошел как великий астроном и математик. О нем эта повесть.

Софы Сматаев, казахский писатель, в своем романе обратился к далекому прошлому родного народа, описав один из тяжелейших периодов в жизни казахской степи — 1698—1725 гг. Эти годы вошли в историю казахов как годы великих бедствий. Стотысячная армия джунгарского хунтайши Цэван-Рабдана, который не раз пытался установить свое господство над казахами, напала на мирные аулы, сея вокруг смерть и разрушение.