Молитва за отца Прохора - [49]
Одна большая муха, облетев вокруг лампочки, пронеслась как раз над его головой. Может, это душа мученика, уведенного отсюда на смерть, превратилась в насекомое. Она летает над головой палача, большая и черная, цвета смерти. Я лежу на боку и смотрю на муху, а сердце выскакивает из груди. Во всех головах одна мысль: чьи имена сейчас прозвучат? Пронесет или нет? Как будто так важно, чьи имена в списке! Как будто важно, убьют меня или другого. Важно, что убьют человека.
– Те, кого назовут, должны взять свои вещи и выйти в коридор, – говорит Бане Кадровик тихим голосом, не спеша.
Возникает волнение. Опасение превращается в страх, а страх в отчаяние. В голове у каждого звучит собственное имя. Услышит ли он его сейчас? Словно это он сам должен сейчас его произнести, а не тот, со списком в руке. Крюгер начинает читать. Мучается, с трудом выговаривая сербские имена и фамилии. Проклятый язык! Груб, как и этот народ. Он мучается, но не разрешает прочитать сербским надзирателям. Он хочет сам наслаждаться этим ритуалом. Видно, что он действительно наслаждается, получает удовольствие от ужаса в наших сердцах и душах. Имена читает медленно, делает паузы. После каждой фамилии останавливается и смотрит на того, чье имя прозвучало. А тот уже спускается с нар.
Доктор, я вас утомляю подробным описанием переклички смертников. Вы только скажите, я могу ускорить свое сказание. Хорошо, я продолжаю. Должен вам признаться, я сейчас заново переживаю все эти ужасы, словно и не прошло с тех пор пятьдесят лет. Во мне все прожитое осталось навек.
Приговоренные прощаются с остающимися. Просят передать последние слова своим близким, как будто не понимают, что остальные последуют за ними через несколько дней. Пока еще ни один из моих земляков не попал в расстрельный список, хотя нас было не менее половины в этом бараке. Может быть, Вуйкович планирует следующий список составить только из нас? Так и пойдем на расстрел все вместе. Сейчас уводят большую группу жителей Мачвы, крестьян и рабочих. Охранники палками отгоняют их от остальных и выталкивают в коридор. Некоторые в дверях машут на прощанье, прощанье навсегда. Последними выходят Бане Кадровик и Крюгер.
После их ухода повисает мучительная тишина, никто не радуется, да и чему? Тому, что невинных людей отвели на казнь? Кто-то сидит на нарах, кто-то лежит. Вдруг раздается голос Милисава Илича из Граба:
– Сколько еще раз нас пронесет?
Никто ему не ответил.
– Отец Йован, ты единственный среди нас, кто мог бы нам дать утешение, – сказал кто-то из угла напротив.
– Я такой же, как все, простой смертный. Утешение надо искать у Того, Кто наблюдает за нами сверху.
Из коридора послышались шаги, крики и звук ударов. Осужденных загоняют в помещения, предназначенные для последней ночи перед казнью, номера девять, десять и четырнадцать. Полночь уже миновала, пришло время, когда пора погрузиться в сон, но, я думаю, никто до зари не сомкнул глаз.
Утром надзиратель мне сообщил, что Вуйкович вновь вызывает меня к себе. Я понимал, что он хочет мне отомстить за отказ от сотрудничества десять дней назад. Я ждал, что на меня выльется вся его злость за то, что я не захотел стать стукачом, каких они вербуют в каждой партии заключенных. Он ждал меня за столом. Стрельнул глазами и встал. Был полон яда.
– Значит, так, – сказал он и остановился, – ты оттолкнул протянутую мной руку.
Начал ходить по комнате. Больше не обращался ко мне на «вы».
– Вы требовали от меня то, что выше моих сил, сказал я ему.
– На это у тебя нет сил, зато есть силы готовить бунт заключенных.
– Никакого бунта я не готовил, – ответил я спокойно.
– Ты собираешься организовать покушение на меня! – заорал он и дал мне пощечину.
Затем продолжил:
– Знай, что Бог бережет меня, потому что я занят правильным делом и иду верным путем.
– Праведны лишь пути Господни, а кто каким путем идет, Он сам рассудит, – сказал я, ожидая второй удар.
И этот удар не заставил себя ждать, удар кулаком в живот, от которого я упал. В этот момент вошел эсэсовец Зуце, известный садист, с надзирателем по имени Лале. Зуце в руках держал кнут из бычьей кожи, с которым никогда не расставался. Я был окружен разъяренными зверями, готовыми меня растерзать. Вуйкович закричал надзирателю:
– Говори, что ты знаешь о планах этого скота!
– И скот, и я – все мы Божьи твари, – осмелился я произнести.
– Заткнись! – проорал он и снова ударил меня по щеке.
– Господин управляющий, у меня есть неопровержимые доказательства, что этот человек с группой заключенных готовит бунт. Есть люди, которые готовы это подтвердить, – сказал надзиратель.
– Так, значит! – крикнул Вуйкович и схватил меня за бороду. – Человек якобы предан Богу, а сам творит богохульные дела.
– Это неправда! – ответил я, ожидая нового удара. – Никакой бунт я не готовлю, Бог свидетель.
– Ты хочешь сказать, что этот почтенный человек лжет? – он указал на надзирателя. – Ты оскорбляешь людей, которые честно исполняют тяжелую работу.
– Насколько честная его работа, известно там, где надо.
– Негодяй! Нарушитель дисциплины!
Я почувствовал удар бича, бил Зуце, с налитыми кровью глазами.

Настоящая монография представляет собой биографическое исследование двух древних родов Ярославской области – Добронравиных и Головщиковых, породнившихся в 1898 году. Старая семейная фотография начала ХХ века, бережно хранимая потомками, вызвала у автора неподдельный интерес и желание узнать о жизненном пути изображённых на ней людей. Летопись удивительных, а иногда и трагических судеб разворачивается на фоне исторических событий Ярославского края на протяжении трёх столетий. В книгу вошли многочисленные архивные и печатные материалы, воспоминания родственников, фотографии, а также родословные схемы.
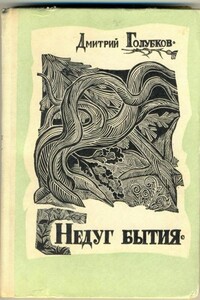
В книге "Недуг бытия" Дмитрия Голубкова читатель встретится с именами известных русских поэтов — Е.Баратынского, А.Полежаева, М.Лермонтова.

Он стоит под кривым деревом на Поле Горшечника, вяжет узел и перебирает свои дни жизни и деяния. О ком думает, о чем вспоминает тот, чьё имя на две тысячи лет стало клеймом предательства?

Исторические романы Георгия Гулиа составляют своеобразную трилогию, хотя они и охватывают разные эпохи, разные государства, судьбы разных людей. В романах рассказывается о поре рабовладельчества, о распрях в среде господствующей аристократии, о положении народных масс, о культуре и быте народов, оставивших глубокий след в мировой истории.В романе «Сулла» создан образ римского диктатора, жившего в I веке до н. э.

Кем был император Павел Первый – бездушным самодуром или просвещенным реформатором, новым Петром Великим или всего лишь карикатурой на него?Страдая манией величия и не имея силы воли и желания контролировать свои сумасбродные поступки, он находил удовлетворение в незаслуженных наказаниях и столь же незаслуженных поощрениях.Абсурдность его идей чуть не поставила страну на грань хаоса, а трагический конец сделал этого монарха навсегда непонятым героем исторической драмы.Известный французский писатель Ари Труая пытается разобраться в противоречивой судьбе российского монарха и предлагает свой версию событий, повлиявших на ход отечественной истории.
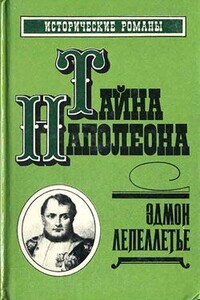
В этих романах описывается жизнь Наполеона в изгнании на острове Святой Елены – притеснения английского коменданта, уход из жизни людей, близких Бонапарту, смерть самого императора. Несчастливой была и судьба его сына – он рос без отца, лишенный любви матери, умер двадцатилетним. Любовь его также закончилась трагически…Рассказывается также о гибели зятя Наполеона – короля Мюрата, о казни маршала Нея, о зловещей красавице маркизе Люперкати, о любви и ненависти, преданности и предательстве…