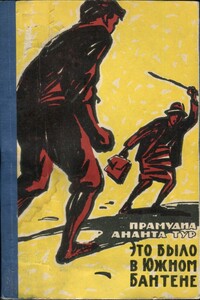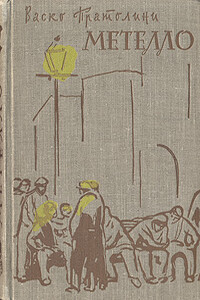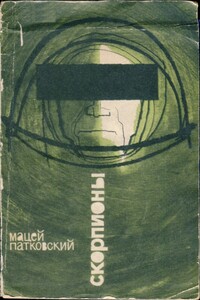Возле памятника оказались мои давнишние знакомые — тамада ущелья, седобородый джигит Бабо Худзиев, который уже много лет тому назад отпраздновал свое столетие, а все еще трудится в хозяйстве. Рядом с ним Созрыко, высокий, широкоплечий горец лет семидесяти. Как-то я назвала его пожилым, так он обиделся не на шутку:
— Тоже сказала, будто в могилу толкнула! Мне еще электростанцию на Фиагдоне построить надо!..
Верно, что Созрыко Цагараев — самородок, каких не много на свете. Еще до войны придумал паровую молотилку, и она была такой удачной, что обмолачивала урожай нескольких колхозов нашего ущелья. Выдалась у него на славу и маленькая электростанция на горной речушке. Освещала даровым светом несколько аулов. Тогда же загорелся он придумкой самоходного комбайна. В Москву бумаги возил, свидетельство ему выдали. Но пришла война и все перевернула, поломала. А когда Созрыко вернулся с фронта, то и начал думать о большой электростанции на реке Фиагдон. Объявился у Созрыко еще один талант — книгу о колхозной жизни, о том, как боролись мы с кулаками, написал. А тут взялся песни сочинять. А сейчас задумал новый, большой памятник Владимиру Ильичу от трудящихся Куртатинского ущелья поставить. Раньше, говорит, мы жили бедно, потому и памятник не очень видный получился, хоть и вложили в него всю душу.
Тамада ущелья, Бабо Худзиев, кивает: дескать, сущая правда, так оно и есть.
Удивительный человек этот столетний Бабо. Он не только произносит тосты на пирах и читает по памяти стихи Коста Хетагурова. Бабо выращивает в своем саду, который приткнулся к горной круче, еще и необыкновенной сладости яблоки и груши, сочные сливы и душистую малину. Сам накашивает сено своим коровам и овцам. А когда молодые охотники отправляются к вечным ледниковым вершинам, Бабо всегда с тяжелой крепкой палкой гордо шагает впереди. Никто лучше его не изучил турьи тропы.
А сейчас Бабо смотрит на меня и говорит:
— Устали наши гости с дороги. Чего же это мы?
Уселись в машину и поехали в аул Лац, где остановились у одной сакли. Неподалеку находилось ложе нартских богатырей — кресло из каменной глыбы. Говорят, на нем сиживал старейший нарт Урузмаг. По обычаю и гостя приглашают посидеть здесь. Но почему-то Бабо сейчас не собирался следовать обычаю, сказал:
— Созрыко, хватит гостей на ветру держать…
— О каком ветре ты говоришь, Бабо? — удивился Созрыко. — Солнце светит, воздух прохладный. А в сакле душно… — Он развел руками: — Терпенье, Бабо, терпенье, не посрамим горских обычаев! — И, только помедлив, пригласил в саклю…
За ним и мы поднялись на длинный и узкий балкон. Чисто подметенный дворик прилепился к выступу серой скалы. Мы уселись на деревянных скамьях за длинный струганый стол, тщательно выскобленный и вымытый. Разговор шел степенный, неторопливый. Ко мне подходили знакомые и незнакомые, здоровались, разглядывали, с почтением на Золотую Звезду посматривали.
За стеной суетились женщины, тянуло дымком, пахло жареным мясом. Хозяйка дома и ее помощницы пекли осетинские пироги со свежим сыром, готовили барашка. Раздавался дробный стук — рубили мясо на пироги. У нас не отпустят гостя, пока не накормят его до отвала всем, что есть в доме!
Уже солнце спускалось за вершину дальней горы, и небо меняло оттенки, розовело, желтело, становилось сиреневым. Порой разговор прерывался, и тогда тишина приходила на балкон, особенная горная тишина — прохладная и звонкая.
Хозяйки накрыли стол. Турий рог наполнился черным пенистым домашним пивом. Бабо готовился произнести тост. Оглаживал бороду, собирался с мыслями. О ком он сейчас будет говорить? Может, о тех, кто открыл тайну Золотого ключа? Или за успех Созрыко, которому не дает покоя новая электростанция? А может быть, о молодом инженере Алане — сыне моего племянника Хазби? Алан стоял притихший, как полагается младшему за столом, когда старший произносит первый тост или поминает усопших…
А я думала о том дне января двадцать четвертого года, когда была отложена свадьба отца Алана, когда страшная весть потрясла горы. Сколько прошло с тех пор событий, сколько минуло лет. Вот уже и Алан взрослый и свою жизнь ведет, как и мой Гайто, моя радость. И не знают-то они о себе всего того, что знаем о них мы, матери, вдовы горемычные, — счастливые и несчастные…
…Был выпускной вечер. Товарищи Алана пошли потом бродить по городу и звали его с собой. И ему хотелось пойти с ними. Но он знал: не спит в эту ночь мама, ждет его домой. Потому что аттестат и золотая медаль, которые сегодня вручили ему, — это не просто награда Алану за хорошую учебу и поведение, но и награда матери. Родила его неспокойной весной. 1941 года. И с того дня стал он ее заботой, ее радостью и надеждой. Через три месяца проводила она на фронт мужа — отменного чабана и заядлого охотника, плясуна и лихого джигита. Не прошло и полгода, как получила похоронную — погиб муженек смертью храбрых под Клином. Дорогой ценой досталась фашистам его жизнь — десять танков уничтожил герой. И тогда ушла на фронт мать Алана — мстить за мужа. Воевала на Волховском фронте, после войны осталась в Ленинграде.