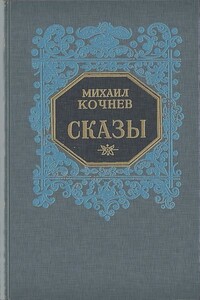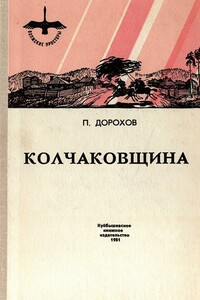Зря старика загубил: хотел сам лесным хозяином стать, но вон оно что вышло. Не успел и подумать — дед поднимается как ни в чем не бывало. Ни хмелинки ни в одном глазу. А глаза сердитые, почернели, искры мечут:
— Ошибся ты, Петр! В этой березе не слезы, не золото, не клад, а против яда — яд.
Небо потемнело. Луна пропала. И такие тучи надвинулись со всех сторон, будто земля рушится. Гром ударил. Огненные стрелы то в одно, то в другое дерево с неба бьют. Лес трещит, стонет. Как стрела огнем метнется, так все до листочка в лесу осветит. Петр было бежать. А ноги не слушаются, да и не убежишь! Вперед сунется — стрела перед ним так в землю и врежется; назад подастся — и там стрела; в сторону бросится — полымя мешает. Куда деваться?
— Дед, прости! Дед, спаси!
А дед ему:
— Нет, ты сам спасайся!
Ветер так и метет, так и гнет деревья до земли, с корнем выворачивает. Береста на березах раскатилась, так Петра по лицу и хлещет, а стрелы вонзаются все ближе и ближе, чуть не в маковку Петру норовят. Видит лиходей — пропал. А рядом толстая, старая береза стоит, с тем дуплом, в которое стоймя войдешь.
И сунулся Петруха в дупло. Не успел влезть, а стрела как раз угодила в ту березу… Застонало дерево стоном человеческим.
И чувствует Петр — деревенеют его руки и ноги, и сам он весь деревом становится. Язык отказался. Стонать стонет, а слова не скажет.
Буря воет, ветер вьет, а от Петра все меньше и меньше остается: засасывает его береза в себя. И все явственней проступают на ее белом стволе два черных гриба-наплывыша, словно брови нахмуренные, и опухоль рябая, будто рожа какого-то чудища.
Дед и говорит ему:
— Вечной мукой тебе изнывать, но не за то, что ты руку на меня поднял, не за это. Потерял ты свою образину и больше не воротишь: ни зверь, ни птица, ни человек на выручку к тебе не явятся. Облик потерял, а окаменеть тебе намертво не дано, чтобы ты вечно казнился. Много ты творил грехов в своей жизни. Но всем грехам грехи — два последних: не набрал духу на чужеземца грудью встать да еще в спайку с недругом влез — первый твой грех смертный; невинного человека оболгал — второй твой смертный грех. И нет тебе за них ни милости, ни прощенья!
Пошел старик от березы. В лесу мало-помалу стало утихать.
Утром, как мужики судье все объяснили, что с ними Герасим топором чужеземцев глушил, Герасима выпустили.
И после ему этот старик лесной помогал. Нет-нет да полотна кусочков десять и подбросит, когда Герасим на ярмарку соберется. А береза та и сейчас скрипит, по ночам проезжих пугает.
Теперь миткали отбеливают по-новому — скоро и хорошо. Все машины делают. А старики помнят, как летом отбеливали полотна на лугах по всей Уводи-реке, а больше у Золотого потока. Зимой, когда снег твердой коркой покроется, поля застилали полотнами — лисице пробежать негде.
Хозяева раздавали сотканный товар по деревням. Там отбелят, а потом уж на фабриках в расцветку пускают.
Жил в ту пору в слободе неподалеку от фабрики пронырливый мужичишка — Никиткой его звали. Подрядами он промышлял. Голова маленькая, глаза плутоватые, бегают, как у мыши, руки чуть не до земли.
И мужики, и бабы, и ребятишки полотна отбеливали. Работали по пятачку с куска — не больно это денежно, ну да где же дороже-то найдешь?
Никитка, однажды тоже за миткалем пошел. К вечеру, на его счастье, морозец ударил. Разостлал Никитка миткаль, по концам положил поленца да кирпичи, воткнул колышки на заметку: а то и ветром унесет и прозевать можно — свои нашалят, скатают. Так останешься в накладе, что потом за пять зим не вернешь.
Вышел Никитка на огород, мороз похваливает. Наст колом не пробьешь; как по полу, по нему иди, похрустывает под лаптями.
Все убрали миткали, а Никитка решил на ночь их оставить на снегу. Думает: «Раньше срока сниму и другую партию раскину». Так с огорода он и не уходил. Проберет его мороз, сбегает Никитка в избу, пошлепает ладонями по горячей печке — и опять на стужу. Петухи пропели, все в селе заснули, только сторож где-то далеко в колотушку брякает. Луна выплыла полная, все кругом осветила. На снегу точно битое стекло рассыпано, снег серебром горит.
Сидит Никитка у гумна в соломе, на миткали поглядывает, в уме пятачки подсчитывает. Вдруг слышит — где-то рядом хрустнуло, будто кто к миткалям подбирается. Высунулся из соломы, видит — человек над миткалями ходит, вроде шагами длину их меряет.
«Постой, — думает Никитка, — поглядим, что дальше будет».
А сам колышек дубовый в руке сжимает: может, понадобится.
Зоркий Никитка был: ночью нитку в иглу мог вдеть. И тут видит — человек чужой, таких в слободе нет. А главное, вот что дивно — с пят до маковки человек белый, как снегом осыпанный: шапка белая — заячья; шуба белая — долгополая; онучи белые — холщовые — и лапти белые. В руке клюшка. Ходит старик по миткалям, метелкой с них как бы снег смахивает, а брать ничего не берет. Посматривает Никитка — понять не может: что этому старику вздумалось ночью чужие миткали обхаживать? Видно, хитрит старик, хозяина выслеживает. А как увидит, что хозяин заснул, и примется скатывать.
Старик обошел все миткали, снял с одной ленты поленце, приподнял конец и хотел не то скатать, не то перевернуть. Тут Никитка из соломы вылез да с колышком к старику: