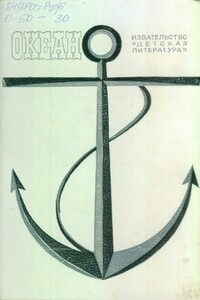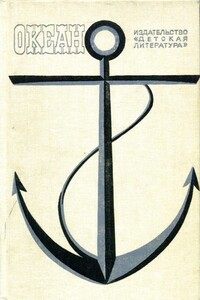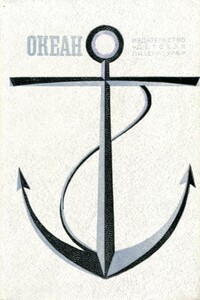Когда же корабль вернулся в базу и почтальон вручил ему заказное письмо, Ледорубов распечатал конверт с интересом, но без особого волнения. Море и шаткая корабельная палуба все еще вызывали в его душе ощущение более сильное, чем береговые дела и заботы, оставшиеся где-то на втором плане.
«Ваша идея, Захар Никитич, по крайней мере лично мне, весьма симпатична, — скорее по-дружески, чем официально, писал главный конструктор Волхов. — Но ее, сами понимаете, нужно еще хорошенько проверить в натуре, прежде чем окончательно высказаться «за» или «против». Одним словом, на ее осуществление потребовались бы дополнительные средства, время. А где все это взять? Вы сами работали в промышленности и не можете не знать, какие сжатые сроки нам отпущены. Возможно, в дальнейшем, при модернизации созданной аппаратуры, мы вернемся к вашему проекту. Но сейчас…»
Захар скомкал письмо и швырнул его в жестяную кандейку, стоявшую у него в каюте под умывальником.
«Отговорки, — подумал он с озлоблением и досадой, — одни отговорки. Просто не хочет, хитрый лис, брать на себя ответственность…»
Захар слишком хорошо знал Волхова, этого многоопытного, осторожного человека, чтобы не усомниться в его искренности. Вспомнилось, как он однажды сказал: «В конструкторском деле всего лишь тридцать процентов техники, а остальное — дипломатия». Это означало, что любую идею, какой бы ни казалась она совершенной, следовало отстаивать, пробивать в различных инстанциях. А Ледорубов не имел такой возможности. Корабельная служба оставалась для него главным содержанием всей жизни. И что бы теперь он ни делал, все было подчинено интересам экипажа. Захар оказался в положении человека, вдруг остановившегося на полпути перед разрушенным мостом: он видел свою дорогу, тянувшуюся к намеченной цели, но не знал, как преодолеть образовавшуюся пропасть.
Штилевая погода продолжалась недолго. Настала пора весенних штормов. Зеленоватая, будто расплавленное бутылочное стекло, вода еще дышала из глубины зимним холодом. Словно пробудившись после долгой спячки, Балтика раскатывала во всю ширь тяжелые волны и облегченно вздыхала у береговой кромки прибоем. Повеселев, апрельское солнце все настойчивее грело стальные надстройки кораблей. Крепкий ветер, настоянный запахом свежей рыбы с примесью сладковатой сосновой смолы, упруго полоскал полотнища сине-белых кормовых флагов и алых вымпелов на мачтах. В Минной гавани, казалось, не было такого человека, которому в эту пору не хотелось бы в море.
И вот наконец пришло время больших учений. Отдавая швартовы, корабли один за другим отходили от пирса. Пугачевский тральщик шел в кильватерном строю следом за флагманом. Лениво покачивая бортами, как бы сперва прицеливаясь, он бодал форштевнем встречную волну, пробивая в ней дорогу. Волна тотчас взрывалась, и брызги всплескивали на полубак высокими радужными фонтанами. Захару их трудяга-пахарь напоминал грузовичок, кузов которого битком набит вещами. На шкафуте громоздились отводители, с виду напоминавшие двукрылые самолеты-кукурузники, а на юте — похожие на массивные бороны решетки углубителей и полный комплект бочкообразных, окрашенных в оранжевый цвет буев.
До полигона путь не близок: больше двух суток хода. Кораблям предстояло произвести учебное траление и очистить заданный квадрат от выставленных там учебных мин.
Днем Пугачев и Ледорубов большую часть времени проводили на ходовом мостике. Работы обоим хватало. Приходилось то и дело поочередно обходить боевые посты, проверять, как матросы несли ходовую вахту. Бортовая качка была настолько изнурительной, что выдерживали ее лишь самые стойкие моряки. Олег Стыков добровольно вызвался отстоять вторую смену за штурвалом, подменив укачавшегося первогодка. Савва Лещихин тоже не сдавался: бледный, измученный, он выбивался из последних сил, помогая боцману Глушко ремонтировать поломавшийся при выборке якоря механический привод шпиля. Труднее всего приходилось мотористам. В машинном отделении воздух прогрелся, будто в знойный летний полдень. Тошнотворное ощущение качки еще более усиливалось дурманом испарявшихся машинных масел и соляра. Моряки сидели у дизелей осоловелыми, как после тяжелого похмелья. Многих тошнило. Но никто из мотористов не попросил у Зубцова подмены раньше положенного времени.
И только Неткачева, казалось, не брали ни качка, ни усталость. Чтобы хоть как-то подбодрить команду, он бродил по отсекам и рисовал с натуры шаржи. И все улыбались, узнавая себя и своих товарищей в забавных рисунках.
К исходу вторых суток плавания море стало успокаиваться. Малахитовые волны теперь катились ровнее, шире. Их вершины стали постепенно округляться, все более сглаживаясь и как бы стекленея.
Приободрились измученные качкой люди. Начали даже по устоявшейся привычке подначивать друг друга, шутить. И Балодису впервые за время похода не пришлось, скрепя сердце, выливать из лагуна за борт наваристый флотский харч.
При подходе к заданному квадрату флагман сбавил обороты винтов. С него дали семафор, и тральщики начали перестраиваться, располагаясь строем «уступа».