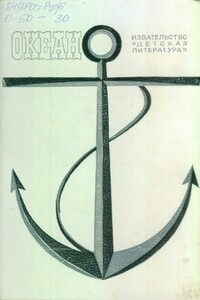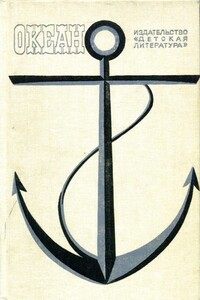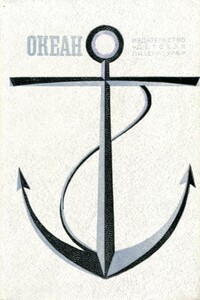Командир лодки Николай Петрович Юрков, подняв воротник мехового кожаного пальто в заложив руки за спину, расхаживал по верху ограждения рубки. Взобравшись на мостик, Линьков остановился около рубочного люка, зябко поводя плечами и не вынимая стынувших рук из карманов альпака. Оставаясь в тени, Владимир видел из-под навеса освещенную прожектором невысокую, щуплую фигурку своего командира, казавшуюся в широком пальто и большой, с опущенными ушами шапке неестественно располневшей, раздавшейся. Его смуглое лицо с подстриженными усами было привычно озабоченным и грустным. Юрков молчал, будто никак не мог вспомнить, зачем ему понадобился Владимир. Среди офицеров командир был единственным человеком, которому Линьков рассказал о своем горе. Юрков обладал достаточным тактом и выдержкой, чтобы не задавать мучительных для Линькова вопросов. Он просто сделал то, что мог сделать: распорядился где надо насчет похорон, переговорил о чем-то с линьковской тещей и даже о состоянии новорожденной по телефону справился. Все это Владимир знал. Но ему было тягостно думать о том, что на лодке кто-то еще может узнать о его несчастье. Он боялся соболезнований и попросил командира никому и ни о чем пока не говорить. Командир удивился, но обещал молчать.
Держась за поручень, Юрков неуклюже и шумно впрыгнул на ходовой мостик. Внимательно посмотрел снизу вверх на Владимира, который ростом был намного выше, и спросил:
— Отчет о прошедших стрельбах составили?
— Я вам докладывал.
— Помню. А что флагманский минер?
— Подписал.
— Так. Ну и теперь у нас… — Юрков отогнул жесткий, неподдающийся рукав пальто и высунулся за борт надстройки, чтобы в свете прожектора лучше разглядеть на ручных часах время, опять вобравшись внутрь ограждения рубки, договорил: — Осталось ровно десять минут до выхода.
Сняв перчатки, Юрков подышал на застывшие от мороза пальцы и спросил:
— Как решили быть с дочкой?
— Не знаю, — хмурясь, ответил Владимир. Вдаваться в подробности на этот счет ему не хотелось. Командир догадывался о том, что творилось на душе у Линькова. Сразу же после похорон теща намеревалась увезти девочку в Москву. Владимир не соглашался.
— Что ж, придется исходить из того, что есть, — как бы разрешая сомнения Линькова, говорил командир, трогая указательным пальцем заиндевевшие усики. — Медицина вашу девочку отдаст не раньше как через месяц, а то и два. Сами понимаете, кормить ее некому… Словом, не скоро выпишут. К этому времени, думаю, мы вернемся в базу. И не беспокойтесь, никому, кроме вас, ребенка не отдадут. Но в этом ли дело? Суть в том, чтобы девочке вашей было хорошо.
Линьков молчал. Он понимал: остаться совсем одному было бы слишком невыносимо, но едва ли кто лучше тещи заменит его ребенку мать. Каким-то непонятным и далеким существом представлялся ему этот маленький человечек, принесший вместо радости столько горя. Он ловил себя на преступной мысли, что думает о своей дочке с какой-то неприязнью и сожалением, будто она, и только она, во всем случившемся была виновата. Но и расстаться с ней он теперь никак не мог: дочка — это все, что у него осталось от прежней жизни.
— Впрочем, всего за один раз не обдумаешь. Время и терпение, Владимир Егорович, — убежденно посоветовал Юрков. — Все у вас наладится, станет на свои места. — И, нагнувшись к рубочному люку, распорядился официальным голосом: — По местам стоять, со швартовых сниматься!
Раздвинув корпусом прибрежную шугу, подлодка выбралась на фарватер, гукнула напоследок ревуном и дала средний ход. Вахта заступила по-походному. Владимир, взобравшись на высокую откидную скамью, сидел на своем привычном месте вахтенного офицера, слева по борту. Ему всегда казалось, что ограждение рубки напоминает поднятый навес какого-то старомодного тарантаса, катящегося по неровной проселочной дороге. Только этот тарантас отчего-то двигался не вперед, а валко пятился своим навесом назад. В окошки, вделанные в этом навесе, глядел рулевой, а Владимир, морщась от ледяного встречного ветра, глядел поверх навеса. Впереди было море, слева и справа за бортом громоздились крутые, припорошенные снегом сопки. И если за кормой были видны еще зыбкие, как мираж, городские огоньки, то с берега едва ли можно было разобрать ходовые огни подлодки. Ночь будто проглотила ее.
— На мостике! — прогудел из рубочного люка чей-то глухой, точно колодезный, голос. — Прошу разрешения подняться наверх!
— Добро, — угрюмо отозвался Линьков.
Прогромыхав по отвесному трапу ботинками, через комингс, люка перешагнул торпедист-первогодок Семен Гущин. В команде звали его попросту Сенечкой. По мнению Линькова, это был добросовестный, хороший матрос, хотя и казался человеком несерьезным. Он мог по-детски наивно удивляться любым пустякам, и ребята над ним вечно подтрунивали. Отшучиваться Гущин не умел. И разыгрывали его тем больше, чем меньше он на это обижался.
— Я покурить, — застенчиво объяснил Гущин, присаживаясь на корточках сбоку от рулевого.
— А я думал, что ты — по нужде… — не без иронии предположил рулевой.
Сигнальщик весело хохотнул.
— Прекратить треп, — обрезал вахтенных Линьков.