Мертвые - [3]
Ну и куда теперь с этим имаваси взглядом – устремить его на потолок, где и без того все скапливается, или прямо перед собой, вперед, к холодновато-зеленой, мерцающей под электрическим светом деревянной рейке над смертным одром, к которой принято прикреплять памятные фотографии или пожелания выздоровления, или все же лучше направить взгляд вниз, в прошлое: наконец пожелать себе, беззвучно и без жалоб, чтобы вернулись те истории, истории, которые ему когда-то рассказывали, с черным вороном и с черной собакой, – когда сам Эмиль сидел, как в пещере, закутанный в отцовское одеяло из меха серебристой лисы, внизу, в ногах родительской постели, и маленькой рукой искал знакомый большой палец отца, отцовскую руку?
Филипом называл его отец на всем протяжении своей жизни. Сорок пять лет проецировал на него эту жестокость, плохо закамуфлированную под юмор, – так, будто не знал, что сына зовут Эмилем, нет, будто не хотел знать; Филип – железный, спокойный, порабощающий оклик, с ударением на первом «и». Потом, когда постоянное ожидание того или иного наказания, того или иного неприятного поручения уже впечаталось в сознание ребенка, затем подростка, его наконец стали называть, нежно и целительно, Фи-ди-бус – уменьшительно-ласкательной формой какого-то имени, которое вообще не принадлежит ему.
Когда отец умирал, когда Нэгели последний раз видел его живым, в «Эльфенштайне», он как-то, подсунув руки под спину, бережно поднял отца с постели, не зная, вправе ли вообще делать такое, – но ведь отец лежал при смерти! Какая сила могла бы ему это запретить? Господин доктор был теперь легким, как перышко, спина и ягодицы у него ужасающе сморщились, покрылись от долгого лежания темно-синими, по краям желтоватыми пятнами.
Его столь знакомое лицо для Эмиля было, однако, ближе и слаще, чем все другое (бело-пегая борода, которую отец когда-то на пляже, во время летнего отдыха в Ютландии, под колючими балтийскими соснами, отрастил, а потом, к разочарованию ребенка, снова сбрил, как поступит потом и его сын; обе загадочные синие точки, одна слева, другая справа, – словно татуировки между ушной раковиной и щекой; тот шрам, от халтурного шва, в бороздке между нижней губой и подбородком); да, это лицо напоминало теперь загрубевшую, пергаментную кожу столетней черепахи. Приближающаяся смерть подтянула кожу назад, слева и справа от ушей, и отец говорил теперь sotto voce – из разрушенной, сгнившей, обсидианового цвета каверны рта.
И пока ветер неустанно и зловеще завывал за окном, отец спрашивал Эмиля, действительно ли там, на совершенно очевидно пустой больничной стене за его спиной, кто-то начертал арабские буквы – точно, вон там, посмотри же, Филип, сынок, – и в самом ли деле он тоже не забыл свою военную службу, и когда наконец его отпустят из этой недостойной клиники, в которую его упрятал сын, по соображениям, для него не понятным, и самое главное: готов ли он, Филип, оказать умирающему старику крохотную услугу – последнюю, так сказать, в которой он ему наверняка не откажет.
Не переставая дрожать, он сделал знак рукой – дескать, пусть Филип подойдет ближе, совсем близко, чтобы отцовские губы дотянулись до его уха. И хихикнул: он, мол, уже порядочное время отказывается чистить зубы и в последний год жизни питается исключительно шоколадом и подслащенным теплым молоком, из-за чего в его ротовой полости пахнет тухлятиной и брожением, но сейчас он хочет прошептать сыну что-то бесконечно важное, окончательное.
Он крепко обхватил запястье Эмиля; да, сказал, подойди еще ближе (Нэгели чувствовал гнилостное, мандрагорное дыхание старика и странным образом воображал, будто эти черные зубы щелкают, пытаясь его поймать, – в то время как отец, с последним напряжением сил, подтягивал его все ближе, совсем близко к себе), и теперь прозвучало одно-единственное, можно сказать, мощное ха: одну латинскую букву, H, он еще смог выдохнуть, громко, но потом что-то затарахтело, как жук, из разверстой глотки отца, и дыхание отлетело от него, и Нэгели бережно закрыл ему помутневшие, будто размытые глаза.
4
Масахико Амакасу лежал дома, опершись локтем о подушку, в большой комнате рядом с кухней: он налил себе полстакана виски, положил на проигрыватель пластинку с сонатой Баха и посмотрел на домашнем проекторе тот самый фильм, примерно до половины. Он не продвинулся дальше места, где молодого человека, из живота которого непристойно торчит рукоятка ножа, вырвало. Амакасу не мог видеть крови; ужасно – его будто парализовало от этого кинематографически зафиксированного, бесчеловечного имаго реальности.
Все это напоминало серию коричневатых фотографий, которые ему однажды довелось подержать в руках; на них можно было видеть, как какого-то преступника в императорском Китае подвергают наказанию линчи, умерщвляют: осужденного, который во время пытки экстатически, словно Святой Себастьян, устремляет взгляд к небу, варварски обрабатывают ножами – сдирают с него кожу, обрубают по кускам, начиная с пальцев, руки и ноги. Амакасу, ужаснувшись, в тот раз так быстро выронил из рук фотоснимки, как если бы они были намазаны контактным ядом: существуют определенные вещи, которые человек не вправе изображать и воспроизводить в виде копий; существуют события, виновниками которых становимся и мы сами, когда рассматриваем их отображения; с него достаточно, он уже все увидел.
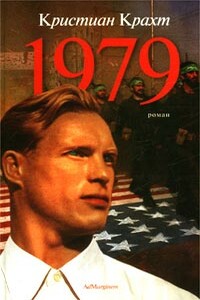
Появление второго романа Кристиана Крахта, «1979», стало едва ли не самым заметным событием франкфуртской книжной ярмарки 2001 года. Сын швейцарского промышленника Кристиан Крахт (р. 1966), который провел свое детство в США, Канаде и Южной Франции, затем объездил чуть ли не весь мир, а последние три года постоянно живет в Бангкоке, на Таиланде, со времени выхода в свет в 1995 г. своего дебютного романа «Faserland» (русский пер. М.: Ад Маргинем, 2001) считается родоначальником немецкой «поп-литературы», или «нового дендизма».

Кристиан Крахт (Christian Kracht, р. 1966) — современный швейцарский писатель, журналист, пишет на немецком языке, автор романов «Faserland», «1979», «Метан». Сын исполняющего обязанности генерального директора издательства «Аксель Шпрингер АГ», он провёл детство в США, Канаде и на юге Франции, жил в Центральной Америке, в Бангкоке, Катманду, а сейчас — в Буэнос-Айресе. В настоящий сборник вошли его путевые заметки, написанные по заказу газеты «Welt am Sontag», а также эссе из книги «New Wave».

В «Империи» Крахт рассказывает нам достоверную историю Августа Энгельхардта, примечательного и заслуживающего внимания аутсайдера, который, получив образование помощника аптекаря и испытав на себе влияние движения за целостное обновление жизни (Lebensreformbewegung), в начале XX века вдруг сорвался с места и отправился в тихоокеанские германские колонии. Там, в так называемых протекторатных землях Германской Новой Гвинеи, он основывает Солнечный орден: квазирелигиозное сообщество, которое ставит целью реализовать идеалы нудизма и вегетарианства на новой основе — уже не ограничивая себя мелкобуржуазными условностями.Энгельхардт приобретает кокосовую плантацию на острове Кабакон и целиком посвящает себя — не заботясь об экономическом успехе или хотя бы минимальной прибыли — теоретической разработке и практическому осуществлению учения о кокофагии.«Солнечный человек-кокофаг», свободный от забот об одежде, жилище и питании, ориентируется исключительно на плод кокосовой пальмы, который созревает ближе к солнцу, чем все другие плоды, и в конечном счете может привести человека, питающегося только им (а значит, и солнечным светом), в состояние бессмертия, то есть сделать его богоподобным.

Минные поля. Запустение. Холод. Трупы подо льдом. Это — Швейцарская Советская республика. Больше века прошло с тех пор, как Ленин не сел в опломбированный вагон, но остался в Швейцарии делать революцию. И уже век длится война коммунистов с фашистами. На земле уже нет человека, родившегося в мирное время. Письменность утрачена, но коммунистические идеалы остались. Еще немного усилий — и немцы с англичанами будут сломлены. И тогда можно будет создать новый порядок, новый прекрасный мир.
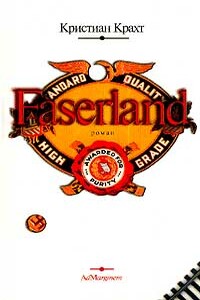
Из беседы с Виктором Кирхмайером на Deutsche Welle radio:Роман Кристиана Крахта «Фазерланд» – важнейший немецкий роман 90-х – уже стал каноническим. В 50-х немецкий философ-неомарксист Теодор Адорно сказал: «После Освенцима нельзя писать стихов». И вот пришло поколение, которое взялось бытописать свое время и свою жизнь. С появлением романа «Фазерланд» Кристиана Крахта в 95-ом году часы идут по-другому. Без этой книги, без этого нового климата было бы невозможно появление новой немецкой литературы.Кристиан Крахт – второй член «поп-культурного квинтета» молодых немецких писателей.

Своими предшественниками Евгений Никитин считает Довлатова, Чапека, Аверченко. По его словам, он не претендует на великую прозу, а хочет радовать людей. «Русский Гулливер» обозначил его текст как «антироман», поскольку, на наш взгляд, общность интонации, героев, последовательная смена экспозиций, ироничских и трагических сцен, превращает книгу из сборника рассказов в нечто большее. Книга читается легко, но заставляет читателя улыбнуться и задуматься, что по нынешним временам уже немало. Книга оформлена рисунками московского поэта и художника Александра Рытова. В книге присутствует нецензурная брань!

Знаете ли вы, как звучат мелодии бакинского двора? А где находится край света? Верите ли в Деда Мороза? Не пытались ли войти дважды в одну реку? Ну, признайтесь же: писали письма кумирам? Если это и многое другое вам интересно, книга современной писательницы Ольги Меклер не оставит вас равнодушными. Автор более двадцати лет живет в Израиле, но попрежнему считает, что выразительнее, чем русский язык, человечество ничего так и не создало, поэтому пишет исключительно на нем. Галерея образов и ситуаций, с которыми читателю предстоит познакомиться, создана на основе реальных жизненных историй, поэтому вы будете искренне смеяться и грустить вместе с героями, наверняка узнаете в ком-то из них своих знакомых, а отложив книгу, задумаетесь о жизненных ценностях, душевных качествах, об ответственности за свои поступки.

Александр Телищев-Ферье – молодой французский археолог – посвящает свою жизнь поиску древнего шумерского города Меде, разрушенного наводнением примерно в IV тысячелетии до н. э. Одновременно с раскопками герой пишет книгу по мотивам расшифрованной им рукописи. Два действия разворачиваются параллельно: в Багдаде 2002–2003 гг., незадолго до вторжения войск НАТО, и во времена Шумерской цивилизации. Два мира существуют как будто в зеркальном отражении, в каждом – своя история, в которой переплетаются любовь, дружба, преданность и жажда наживы, ложь, отчаяние.

Книгу, которую вы держите в руках, вполне можно отнести ко многим жанрам. Это и мемуары, причем достаточно редкая их разновидность – с окраины советской страны 70-х годов XX столетия, из столицы Таджикской ССР. С другой стороны, это пронзительные и изящные рассказы о животных – обитателях душанбинского зоопарка, их нравах и судьбах. С третьей – раздумья русского интеллигента, полные трепетного отношения к окружающему нас миру. И наконец – это просто очень интересное и увлекательное чтение, от которого не смогут оторваться ни взрослые, ни дети.
![Воровская яма [Cборник]](/storage/book-covers/08/086ec5131cfee1e9284b895205abfa019c8ddf36.jpg)
Книга состоит из сюжетов, вырванных из жизни. Социальное напряжение всегда является детонатором для всякого рода авантюр, драм и похождений людей, нечистых на руку, готовых во имя обогащения переступить закон, пренебречь собственным достоинством и даже из корыстных побуждений продать родину. Все это есть в предлагаемой книге, которая не только анализирует социальное и духовное положение современной России, но и в ряде случаев четко обозначает выходы из тех коллизий, которые освещены талантливым пером известного московского писателя.

Оксана – серая мышка. На работе все на ней ездят, а личной жизни просто нет. Последней каплей становится жестокий розыгрыш коллег. И Ксюша решает: все, хватит. Пора менять себя и свою жизнь… («Яичница на утюге») Мама с детства внушала Насте, что мужчина в жизни женщины – только временная обуза, а счастливых браков не бывает. Но верить в это девушка не хотела. Она мечтала о семье, любящем муже, о детях. На одном из тренингов Настя создает коллаж, визуализацию «Солнечного свидания». И он начинает работать… («Коллаж желаний») Также в сборник вошли другие рассказы автора.