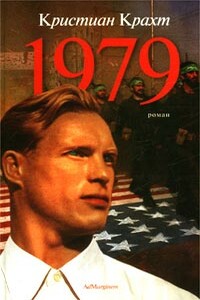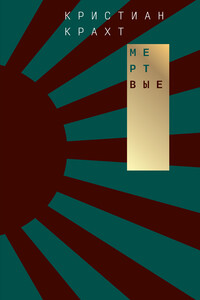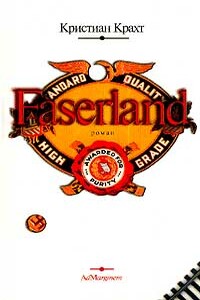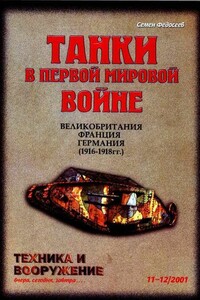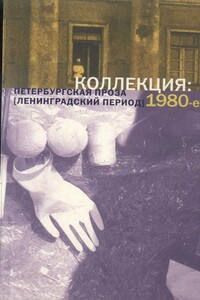Под длинными белыми облаками, под роскошным солнцем, под светлым небом сперва раздался протяжный гудок, потом судовой колокол настойчиво стал звать всех на обед, а малайский boy, мягко и неслышно ступая по верхней палубе, осторожным прикосновением к плечу будил тех пассажиров, которые погрузились в сон сразу после плотного завтрака. Судоходная компания «Северогерманский Ллойд», черт бы ее побрал, бдительно следила, чтобы у пассажиров первого класса, благодаря искусству китайских поваров с заплетенными в длинные косички волосами, на столе каждое утро были великолепные плоды цейлонского манго сорта Альфонсо, разрезанные вдоль и искусно сервированные, яичница-глазунья с салом, а также маринованная куриная грудка, креветки, ароматный рис и крепкий английский портер. Именно чрезмерное пристрастие к пиву придавало возвращающимся домой плантаторам в неизменных бело-фланелевых костюмах — тем, что дремали в шезлонгах на верхней палубе «Принца Вальдемара», вместо того чтобы нормально поспать у себя в каюте, — такой непрезентабельный и, можно сказать, неряшливый вид. Пуговицы на их ширинках еле-еле держались, жилеты были усеяны шафранно-желтыми пятнами от соуса. Смотреть на такое невыносимо. Бледные, заросшие щетиной, вульгарные, похожие на земляных поросят, они медленно пробуждались от пищеварительного сна: немцы в зените своего мирового влияния…
Такие или примерно такие мысли приходили в голову юному Августу Энгельхардту, пока он, закинув одну тощую ногу на другую, сидел на палубе, смахивал с одежды воображаемые крошки и хмуро смотрел через релинг на маслянистую гладь моря. Птицы-фрегаты сопровождали, слева и справа, их судно, не отдалявшееся от берега более чем на сотню морских миль. Время от времени они ныряли в море: эти крупные хищники с раздвоенным, как у ласточек, хвостом, чьи совершенные воздушные пируэты и хитроумные охотничьи трюки пленяют всех, кому доводится плавать в здешних широтах. Энгельхардт тоже восхищался птицами Тихого океана, особенно медососом-колокольчиком: в детстве он часами изучал по толстым фолиантам эту птицу и ее великолепный наряд, переливавшийся в лучах его мальчишеского воображения, — обводя пальцем то контур клюва, то пестрые перья… Теперь же, когда Энгельхардт действительно слышал над головой шорох птичьих крыльев, он смотрел не на птиц, а на тучных плантаторов, которые, вынашивая в себе запущенный третичный сифилис, возвращались домой; а сейчас задремали над сухими утомительными репортажами в «Тропическом плантаторе» или «Германской колониальной газете» и, причмокивая губами, грезили о негритянках с обнаженными шоколадными грудями.
Слово «плантатор» не очень к ним подходит, ибо понятие это предполагает наличие внутреннего достоинства, практического опыта обращения с природой и с сакральным чудом произрастания; нет, их уместнее назвать «управляющими», в подлинном смысле, ибо именно управляющими так называемого прогресса и были эти филистеры: все как один со щеточками усов, подстриженных по берлинской или мюнхенской моде трехлетней давности, под мясисто-пурпурными крыльями носа, которые подрагивают при каждом выдохе, и с расположенными еще ниже трепещуще-губчатыми губами, к коим прилипли пузырьки слюны, которые, освободись они от свойственного им лабиально-клейкого состояния, кажется, сами воспарили бы в воздух подобно летучим мыльным пузырям…
Плантаторы, со своей стороны, поглядывали из-под опущенных век и видели, что в шезлонге, стоящем несколько на отшибе, расположилось трепетное существо, представляющее собой сплошной пучок нервов, лет двадцати пяти от роду, с меланхоличными глазами саламандры, худое, тщедушное, длинноволосое, облаченное в бесформенное одеяние цвета яичной скорлупы, с длинной бородой, беспокойно шевелящейся поверх шейного выреза без воротника; и, наверное, каждый из пассажиров в какой-то момент задавал себе вопрос: что же это за человек, который — через раз за завтраком, но каждый раз за ленчем — одиноко сидит в углу салона второго класса, перед принесенным ему бокалом сока, тщательно разрезает на ломтики половинку тропического фрукта, а на десерт открывает картонную упаковку, ложечкой насыпает из нее в стакан с водой немного коричневой, похожей на пудру пыли, судя по виду — измельченную в порошок землю. И потом съедает этот земляной пудинг! Да еще с каким воодушевлением! Вероятнее всего, это какой-нибудь проповедник… анемичный, не приспособленный к жизни. Но, в сущности, малоинтересный. Впрочем, к чему эти размышления… Каждый плантатор приходил к выводу, что здесь, на тихоокеанских островах, молодой человек продержится от силы год, — после чего, покачав головой, смыкал приоткрытые на щелочку веки и, бормоча себе что-то под нос, засыпал снова.
Громкий надсадный храп озвучивал движение немецкого парохода — на протяжении всего плавания мимо американских Филиппин, через Лусонский пролив (к Маниле они не приближались, поскольку царила полная неопределенность относительно исхода войны, охватившей эту колонию), по водам невероятно протяженной, как казалось, территории Нидерландской Индии и вплоть до протекторатных земель.