Мертвое «да» - [23]
В Каневе к нам приходила швея, почти девяностолетняя старуха, высокая, прямая, аккуратная, в черном платке, которая, несмотря на годы, продолжала еще брать работу. В городе ее звали Шевченковой невестой. Даже девушка, докладывавшая о ее приходе, говорила: — Барыня, Шевченкова невеста до вас пришла. — Мы ее немного боялись, и она нам дарила для игры какие-то удивительные фасолины: лиловые, красные, с пестринкой.
Отца опять почти никогда не было с нами. Он был выбран в Государственную Думу[12] и приезжал только в перерыв между сессиями. Целый день он сидел у себя в кабинете или в «присутствии», помещавшемся на той же улице, неподалеку от нашего дома. Я был потрясен его важностью и почтением, с каким все с ним обращались.
Однажды он взял меня с собой на парад потешных, полувоенной организации для мальчиков, в которой состояли все дети нашей прислуги. У отца вся грудь была в крестах и медалях и перед ним проводили строем некрасивых мальчиков, одетых в странную форму. Играл оркестр, мальчики пели и потом делали гимнастику, прыгали друг через друга, бегали в мешках. Им раздавали платки и кулечки с ярко-красными и ярко-зелеными конфетами, о которых нам всегда говорилось, что их есть нельзя, потому что живот болеть будет.
К зиме начались сборы в Петербург. Мне тоже дали чемоданчик, и я месяца за два до отъезда спешно уложил в него мои игрушки, но пришлось распаковывать, потому что без игрушек стало скучно. В день отъезда, когда лошади уже были поданы, я опять раскрыл чемоданчик и вынул из него моего медведя. — Я его оставлю в детской на стуле, — подумал я, — он все равно приедет, его кто-нибудь принесет или привезет. Он не может пропасть, я его оставлю, чтобы он вернулся, пусть случится с ним чудо, чудо не может не случиться.
Меня уже звали. Я взглянул еще раз на истертую медвежью морду, медведь одиноко и печально сидел на стуле в разоренной и пустой комнате. Кругом кареты уже стояла дворня, провожающие. Никто не нес мне моего медведя. — Ничего не забыли? — спросила моя мать. — Ну, с Богом!
Еще можно было закричать, побежать в детскую. Я замирал, но не крикнул — чудо должно было случиться. Карета наконец двинулась. — Его, наверно, положили в телегу с чемоданами, — успокаивал я себя, — он ко мне вернется, мне его отдадут на ближайшей станции, где мы будем менять лошадей.
До железной дороги было очень далеко (в Каневе железной дороги не было), мы ехали в карете, запряженной шестеркой, и я перестал думать о чудесах, когда мне разрешили пересесть к кучеру на козлы. Кучер едва держал вожжи — столько их было и никак не мог уследить, чтобы все лошади тянули равномерно. — Эх, лядяшая, — кричал он на левую пристяжную и подогревал ее кнутом, но в это время в передней паре «сдавала» правая, и он тянулся, чуть не падая с козел, чтобы поучить как следует и ее.
Мы ехали целый день и остановились ночевать на постоялом дворе, который держали две сестры старые еврейки. Еврейки целовали нам руки, умилялись нашей красоте, кружились вокруг нас и угощали фаршированной щукой, которая называлась рыба-фиш.
Подъехала телега с лакеем Авдеем и горничной Мотей, которые везли вещи. — Мишка с вами? — бросился я к ним. — Какой Мишка? — спросила Мотя. — Мой Мишка. Медведь. Игрушка. — Никакого Мишки нет, — сказала Мотя. — Наверно, Марта Яковлевна куда-нибудь его уложила. — Я обмер.
Чуда не случилось, а как я был уверен, что оно должно — не может — не случиться! Я рыдал безутешно и никто не понимал, что причина моих слез более сложная, что я плачу не об одном Мишке. Меня начали уверять, что медведь где-нибудь, наверно, в вещах и найдется, когда все разберут в Петербурге. Мать обещала купить мне нового медведя, еврейки осыпали меня жаркими поцелуями, от которых я отмахивался.
В Петербурге медведя в вещах, конечно, не оказалось. Уступая моим мольбам, написали в Канев, но и в Каневе никто о нем ничего не знал и его не видели. Случай с медведем был моим первым настоящим и сознательным горем в жизни.
4. Петербург
В Петербурге мы прожили две зимы перед Мировой войной, на лето уезжая в деревню в Киевскую губернию. Петербург потряс меня: ведь Канев был почти деревней, где нас все знали, все нам кланялись, а здесь никто нам не кланялся, никто нас не знал, и наш дом был совсем не самым лучшим в городе. Если в Каневе по улицам катилась карета, то это кто-нибудь ехал к нам, или уезжал от нас из окрестных помещиков. Количество карет сбило меня с толку, я все заглядывал в кареты, думая увидеть там знакомые лица. Автомобиль я уже знал — к нам приезжал в Канев на автомобиле Суковкин и возил кататься — автомобиль прыгал по рытвинам, толчки были страшные, проселочные русские дороги совсем не были приспособлены для этого странного сооружения, высоко поставленного на колеса, дребезжащего, издававшего острый и неприятный запах бензина. Крестьяне же, завидя нас, сворачивали с дороги в посевы, закрывали бьющейся лошади голову в тряпки и посылали нам вслед ругательства.
В Петербурге было много автомобилей, но извозчики еще держались крепко, им принадлежало большинство. Трамвай меня очаровал, я все просил, чтобы меня прокатили в трамвае. На Каменноостровский еще ходила конка.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Аннотация от автораЭто только кажется, что на работе мы одни, а дома совершенно другие. То, чем мы занимаемся целыми днями — меняет нас кардинально, и самое страшное — незаметно.Работа в «желтой» прессе — не исключение. Сначала ты привыкаешь к цинизму и пошлости, потом они начинают выгрызать душу и мозг. И сколько бы ты не оправдывал себя тем что это бизнес, и ты просто зарабатываешь деньги, — все вранье и обман. Только чтобы понять это — тоже нужны и время, и мужество.Моя книжка — об этом. Пять лет руководить самой скандальной в стране газетой было интересно, но и страшно: на моих глазах некоторые коллеги превращались в неопознанных зверушек, и даже монстров, но большинство не выдерживали — уходили.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.
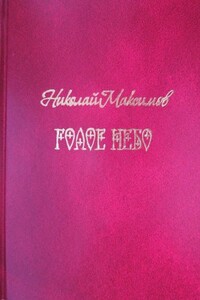
Стихи безвременно ушедшего Николая Михайловича Максимова (1903–1928) продолжают акмеистическую линию русской поэзии Серебряного века.Очередная книга серии включает в полном объеме единственный сборник поэта «Стихи» (Л., 1929) и малотиражную (100 экз.) книгу «Памяти Н. М. Максимова» (Л., 1932).Орфография и пунктуация приведены в соответствие с нормами современного русского языка.

Лидия Давыдовна Червинская (1906, по др. сведениям 1907-1988) была, наряду с Анатолием Штейгером, яркой представительницей «парижской ноты» в эмигрантской поэзии. Ей удалось очень тонко, пронзительно и честно передать атмосферу русского Монпарнаса, трагическое мироощущение «незамеченного поколения».В настоящее издание в полном объеме вошли все три прижизненных сборника стихов Л. Червинской («Приближения», 1934; «Рассветы», 1937; «Двенадцать месяцев» 1956), проза, заметки и рецензии, а также многочисленные отзывы современников о ее творчестве.Примечания:1.

Вере Сергеевне Булич (1898–1954), поэтессе первой волны эмиграции, пришлось прожить всю свою взрослую жизнь в Финляндии. Известность ей принес уже первый сборник «Маятник» (Гельсингфорс, 1934), за которым последовали еще три: «Пленный ветер» (Таллинн, 1938), «Бурелом» (Хельсинки, 1947) и «Ветви» (Париж, 1954).Все они полностью вошли в настоящее издание.Дополнительно републикуются переводы В. Булич, ее статьи из «Журнала Содружества», а также рецензии на сборники поэтессы.
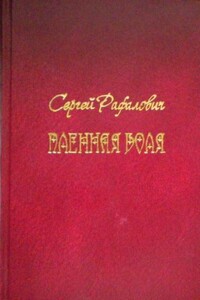
Сергей Львович Рафалович (1875–1944) опубликовал за свою жизнь столько книг, прежде всего поэтических, что всякий раз пишущие о нем критики и мемуаристы путались, начиная вести хронологический отсчет.По справедливому замечанию М. Л. Гаспарова. Рафалович был «автором стихов, уверенно поспевавших за модой». В самом деле, испытывая близость к поэтам-символистам, он охотно печатался рядом с акмеистами, писал интересные статьи о русском футуризме. Тем не менее, несмотря на обилие поэтической продукции, из которой можно отобрать сборник хороших, тонких, мастерски исполненных вещей, Рафалович не вошел практически ни в одну антологию Серебряного века и Русского Зарубежья.