Мертвое «да» - [24]
Мы жили сначала на Таврической, потом на Захарьевской. Комнаты мне казались маленькими и темными после огромного каневского дома. Утром мы с Мартой провожали отца в Думу и потом шли в Таврический Сад. Фрейлейн Марта быстро отыскала знакомых, таких же балтийских гувернанток, как она, и особенно обрадовалась встрече с фрейлейн Эммой, которая прогуливала каждый день в Таврическом Саду своего питомца Витю в те же часы, в которые гуляли и мы.
Витя был живой мальчик в серой меховой шапке с наушниками, мы с ним говорили всегда по-немецки, т. к. по-русски до обеда нам говорить запрещалось. Один раз он вставил по-русски название какой-то машины, — он очень интересовался машинами — и это меня чрезвычайно поразило: точно бы заговорила по— человечески вдруг лошадь или собака. Я совсем не интересовался машинами (а увы, все куклами, все моей Маришкой), но Витина страсть зажигала и меня и время за немецкой болтовней пролетало незаметно. Прощаясь, я забывал Витю мгновенно, точно его и не существовало.
Иногда к нам присоединялись дети Гучкова, видного думского депутата, в будущем сыгравшего свою роль в революции. Но и игры, и разговоры наши были благонравные, однотонные; нас страшно кутали — длинная теплая шуба, черное теплое трико до пояса, snow-boots, шарфы, варежки, так что разбегаться особенно было трудно, сразу бросало в жар и в изнеможение. Алла была еще совсем маленькая, серьезная, насупленная, круглая от платков и мехов, с круглой муфтой. Она чинно выступала рядом с нашими фрейлинами.
Фрейлейн Марта накупила разных педагогических игр, и мы клеили из бумаги все более сложные замки и пароходики, лепили уродов из пластилина, плели коврики, и репертуар наших глупых и сладеньких немецких песенок становился все богаче. Тетя возилась с маленькой Лизой и следила за ее кормилицей, которую по тогдашней для кормилиц моде обряжали в сарафан, кокошник и бусы. Улицы были полны такими молочными боярынями с профессионально развитой грудью, чинно несущими в объятьях барских младенцев.
В Петербурге у нас оказалось множество родственников. Нас целовали все новые тети и дяди, но все наши кузены были значительно старше нас и относились к нам с полным равнодушием.
У дяди Анатоля, камергера, женатого на уродливой дочери морского министра Чихачева, было два сына, правовед и паж. Андрей, паж, был на редкость хорош собой, в мундирчике, расшитом золотом. Он как будто чуть меньше презирал нас, и мы за это (и за
его красоту) были готовы заплатить ему самой пылкой любовью, но не решались и только глядели на него с обожанием. Из их гостиной была видна Нева, Петропавловская крепость, у них в доме все говорили тише, чем у нас, и елка, на которую нас пригласили,
совсем не походила на нашу: наша была пестрая, яркая, жаркая, ветки сгибались от украшений, цепей, золоченых орехов, померанцев, пряников, бус. Елку у дяди зажгли еще днем и на ней, кроме ваты и свечей, ничего не было. Она бледно сияла на фоне огромного окна, Невы и Петропавловской крепости. Кругом такой елки трудно было петь и прыгать. Андрей в шитом мундире и с лицом медали раздавал подарки. Нас заставили петь, и мы, смущаясь, спели «Елочка, елочка, как мы тебе рады» и, конечно, «O, Tannenbaum!».
Дядя Анатоль, маленький, худенький, веселый, начал нам было подпевать, но остановился, сконфузившись тоже под равнодушным взглядом некрасивой тети Сони.
У нас почти никто не бывал, и мать почти никуда не выезжала, кроме самых близких родственников. Ее глухота не проходила (она почти потеряла слух еще в деревне от сквозного ветра, войдя в амбар, в котором просушивали зерно), и она очень тяготилась своей немощью занимать «столичных» дам и необходимостью следить за разговором при помощи слухательного аппарата — выдвижной роговой черной трубки.
Иногда после завтрака она выходила с нами и Мартой обыкновенно в Гостинный Двор, где у нас глаза разбегались от количества игрушек, огней, толпы. Марта читала нам вслух про мурзилок, и мы были в восторге, когда однажды в витрине узнали Доктора Мазь-Перемазь и Индейца. Меня очень прельщали значки разных благотворительных организаций, которые постоянно продавались на улицах. То в пользу гонимых балканских славян (или балканских войн) туберкулезных, инвалидов. Я впервые заинтересовался деньгами — на них можно было купить эти кресты, звезды, медали, но однажды, выпросив у отца два рубля, растерялся и не знал, что с ними делать. Я накупил болгарских значков, — вся шуба была в орденах, — переводных картинок, мурзилку — но денег оставалось еще множество. Я купил деревянную бабу, в которой была другая баба поменьше, а в той — еще баба — так, баб десять; последняя была микроскопическая бабенка — неизвестно для чего, только чтобы истратить деньги. Но деньги еще оставались.
Назад мы возвращались на извозчике. Рано темнело, и город зажигался бесконечными огнями. Невский Проспект был в сплошном сиянии. Это так казалось тогда; вероятно, освещение Петербурга в 1912 году было более чем скромным по сравнению с огнями Елисейских Полей и Place de la Concorde в нынешнее время. Мы сидели в санях, завернутые мехами по глаза, снег от копыт лошадей летел мимо нас и всегда попадал в лицо, навстречу бесконечным потоком неслись другие сани, кареты, вейки, на лошадях были нарядные шелковые сетки, темно-синие, зеленые, темно-красные. Однажды мимо нас промчались сани с Андреем, кутавшимся в бобровый воротник:

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Аннотация от автораЭто только кажется, что на работе мы одни, а дома совершенно другие. То, чем мы занимаемся целыми днями — меняет нас кардинально, и самое страшное — незаметно.Работа в «желтой» прессе — не исключение. Сначала ты привыкаешь к цинизму и пошлости, потом они начинают выгрызать душу и мозг. И сколько бы ты не оправдывал себя тем что это бизнес, и ты просто зарабатываешь деньги, — все вранье и обман. Только чтобы понять это — тоже нужны и время, и мужество.Моя книжка — об этом. Пять лет руководить самой скандальной в стране газетой было интересно, но и страшно: на моих глазах некоторые коллеги превращались в неопознанных зверушек, и даже монстров, но большинство не выдерживали — уходили.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.
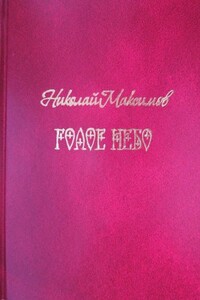
Стихи безвременно ушедшего Николая Михайловича Максимова (1903–1928) продолжают акмеистическую линию русской поэзии Серебряного века.Очередная книга серии включает в полном объеме единственный сборник поэта «Стихи» (Л., 1929) и малотиражную (100 экз.) книгу «Памяти Н. М. Максимова» (Л., 1932).Орфография и пунктуация приведены в соответствие с нормами современного русского языка.

Лидия Давыдовна Червинская (1906, по др. сведениям 1907-1988) была, наряду с Анатолием Штейгером, яркой представительницей «парижской ноты» в эмигрантской поэзии. Ей удалось очень тонко, пронзительно и честно передать атмосферу русского Монпарнаса, трагическое мироощущение «незамеченного поколения».В настоящее издание в полном объеме вошли все три прижизненных сборника стихов Л. Червинской («Приближения», 1934; «Рассветы», 1937; «Двенадцать месяцев» 1956), проза, заметки и рецензии, а также многочисленные отзывы современников о ее творчестве.Примечания:1.

Вере Сергеевне Булич (1898–1954), поэтессе первой волны эмиграции, пришлось прожить всю свою взрослую жизнь в Финляндии. Известность ей принес уже первый сборник «Маятник» (Гельсингфорс, 1934), за которым последовали еще три: «Пленный ветер» (Таллинн, 1938), «Бурелом» (Хельсинки, 1947) и «Ветви» (Париж, 1954).Все они полностью вошли в настоящее издание.Дополнительно републикуются переводы В. Булич, ее статьи из «Журнала Содружества», а также рецензии на сборники поэтессы.
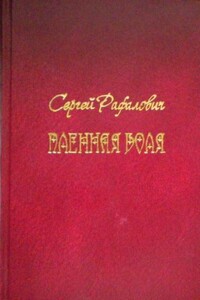
Сергей Львович Рафалович (1875–1944) опубликовал за свою жизнь столько книг, прежде всего поэтических, что всякий раз пишущие о нем критики и мемуаристы путались, начиная вести хронологический отсчет.По справедливому замечанию М. Л. Гаспарова. Рафалович был «автором стихов, уверенно поспевавших за модой». В самом деле, испытывая близость к поэтам-символистам, он охотно печатался рядом с акмеистами, писал интересные статьи о русском футуризме. Тем не менее, несмотря на обилие поэтической продукции, из которой можно отобрать сборник хороших, тонких, мастерски исполненных вещей, Рафалович не вошел практически ни в одну антологию Серебряного века и Русского Зарубежья.