Мертвое «да» - [21]
Тетя… Тетя не была нам никакой родственницей. Маленькая и сухонькая, всегда одетая одинаково: на голове — в комнатах — тончайшая белая косынка, завязанная по-бабьи на затылке (на улице белая косынка заменялась черным шерстяным платком), серое или черное широкое старомодное платье. Острый, с горбинкой нос, тонкие губы, тонкое лицо, — так не подходящее к бабьей ее косынке и ее платкам. Возраста у нее не было, она родилась в 1848 году, и, шестидесятилетняя и семидесятилетняя, бегала как молоденькая и была подвижна и жива не по возрасту.
Есть такая игра: у каждого по очереди спрашивают, кого бы из присутствующих он взял бы с собой в спасательную лодку во время кораблекрушения — в которой остается только одно место. Во время революции и бегства мне судьба буквально задала такой же вопрос, и я, не задумываясь, ответил: Тетю. А рядом стояли моя мать, мой отец, вся моя семья. Единственный человек, которого я любил в жизни чистой, горячей, ненадуманной любовью — была эта Тетя. И взрослым, видя ее во сне, я всегда неутешно о ней плачу.
Тетя была полькой. Ее отец, бедный шляхтич арендовал имение у помещиков в Юго-Западном крае, но своим многочисленным дочерям дал шляхетское воспитание. Тетя играла на пианино «Молитву Девы» — у меня падает сердце, когда я теперь слышу порой эти наивные и сладкие звуки моего младенчества (я всегда должен выйти из комнаты). Тетя говорила по-французски наивно и нарядно, как говорят по-французски по уездным городам Польши, Австрии, вообще центральной Европы старые люди, воспитанные еще во французской традиции. Она всегда жила по чужим людям в гувернантках, но и она вспоминала какую-то свою молодость, кавалькады с офицерами, прогулки в знаменитом парке Софиевка в Умани; Умань, Харьков, какую-то важную княгиню Вяземскую, которая ее любила, — у нее тоже было что-то веселое и хорошее в ее молодости.
Мне всегда хочется спасти от забвения и небытия то хорошее и теплое, что было в жизни любимых мной мертвецов и передать дальше, чтобы хоть что-нибудь от их любви и нежности и им дорогого осталось и после моей смерти. Это не должно бесследно рассыпаться, мы ведь мертвецам обязаны хотя бы этим нашим пониманием.
Тетя не забывала своего шляхетского происхождения, придерживалась строго своей веры, постилась по католическим постным дням, давала понять управляющему и экономке, что она не одного с ними корня и что нам она равная, хотя и бедная.
Как к нам попала Тетя? Я родился в Смелее (?), маленьком украинском местечке, имении гр. Бобринских, но не у Бобринских во дворце, а в домике сестры Тети, местной акушерки. Зачем моя мать приезжала для моего рождения в Смелу, я не знаю. Очевидно, она знала Тетю и ее сестру еще задолго до моего рождения.
Купания, детская, кормилица с моей сестрой на руках, моя мать, редкие появления моего отца. Полусон раннего детства, ровный, теплый, мягкий, аксаковский. Ни одного резкого звука, ни одной запоминающейся особо картины, варенье в тазиках, которое варит моя мать под деревом, ее спокойный, такой дружеский разговор с Тетей, весь мир: мать, Тетя, несколько дорожек перед домом и ровный, теплый, сияющий украинский июль.
3. Канев
Женившись на моей матери, отец подал в отставку и поселился в украинском имении. Он вскоре был назначен уездным предводителем дворянства и ревностно отдался земской деятельности и сельскому хозяйству. Он вечно был в разъездах, постоянно наш женский мирок стоял около перрона, а он уже махал нам из коляски, запряженной четвериком рыжих высоких лошадей, в белом кителе с золотыми пуговицами, с орденами, в красной дворянской фуражке.
Осенью мы все переехали в уездный город Канев. Помню сборы, мужиков возившихся с ящиками потом бесконечную дорогу — до Канева было больше 60 верст, в тесной карете, набитой свертками, баулами, дорожными погребцами.
С трехлетнего возраста воспоминания перестают быть отрывочными. Наш городской дом выходил на четыре улицы, это была поместительная усадьба, сад был запущенный и большой. Жизнь мало чем отличалась от Николаевки, по-прежнему со мной были Тетя, мать, моя сестра, но в доме у нас бывало гораздо больше народа, и со мной гости разговаривали сладенькими голосами, желая угодить моему отцу, бывшему первым лицом в городе, и дарили мне подарки.
Меня наряжали девочкой, и я носил длинные волосы, которые вились и причиняли мне немало мучений при расчесывании. Бывало, что дети отцовского письмоводителя допытывались у меня: — Ты мальчик? Скажи, ведь ты девочка?
Я мало задумывался над тем, девочка я, или мальчик, но иногда не без удовольствия, когда у нас бывали дети, сравнивал мое шелковое платьице и ленты с нарядами девочек — мое платье и ленты в моих волосах всегда были самыми нарядными. Я играл в куклы с наслаждением. Отец привез нам с сестрой куклы из Парижа, сестре Степку-Растрепку, мне школьника с ранцем, который скоро из школьника превратился в школьницу, потому что Тетя не умела шить штаны. Эта кукла, потрепанная, истерзанная, испачканная была мне дороже всех игрушек многие годы и, тайком от всех, даже двенадцатилетним, я доставал ее из укромного места, куда прятал мою Маришку, чтобы меня не засмеяли, и примерял ей обрывки украденных кружев и цветные лоскуты.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Аннотация от автораЭто только кажется, что на работе мы одни, а дома совершенно другие. То, чем мы занимаемся целыми днями — меняет нас кардинально, и самое страшное — незаметно.Работа в «желтой» прессе — не исключение. Сначала ты привыкаешь к цинизму и пошлости, потом они начинают выгрызать душу и мозг. И сколько бы ты не оправдывал себя тем что это бизнес, и ты просто зарабатываешь деньги, — все вранье и обман. Только чтобы понять это — тоже нужны и время, и мужество.Моя книжка — об этом. Пять лет руководить самой скандальной в стране газетой было интересно, но и страшно: на моих глазах некоторые коллеги превращались в неопознанных зверушек, и даже монстров, но большинство не выдерживали — уходили.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.
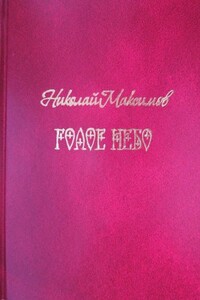
Стихи безвременно ушедшего Николая Михайловича Максимова (1903–1928) продолжают акмеистическую линию русской поэзии Серебряного века.Очередная книга серии включает в полном объеме единственный сборник поэта «Стихи» (Л., 1929) и малотиражную (100 экз.) книгу «Памяти Н. М. Максимова» (Л., 1932).Орфография и пунктуация приведены в соответствие с нормами современного русского языка.

Лидия Давыдовна Червинская (1906, по др. сведениям 1907-1988) была, наряду с Анатолием Штейгером, яркой представительницей «парижской ноты» в эмигрантской поэзии. Ей удалось очень тонко, пронзительно и честно передать атмосферу русского Монпарнаса, трагическое мироощущение «незамеченного поколения».В настоящее издание в полном объеме вошли все три прижизненных сборника стихов Л. Червинской («Приближения», 1934; «Рассветы», 1937; «Двенадцать месяцев» 1956), проза, заметки и рецензии, а также многочисленные отзывы современников о ее творчестве.Примечания:1.

Вере Сергеевне Булич (1898–1954), поэтессе первой волны эмиграции, пришлось прожить всю свою взрослую жизнь в Финляндии. Известность ей принес уже первый сборник «Маятник» (Гельсингфорс, 1934), за которым последовали еще три: «Пленный ветер» (Таллинн, 1938), «Бурелом» (Хельсинки, 1947) и «Ветви» (Париж, 1954).Все они полностью вошли в настоящее издание.Дополнительно републикуются переводы В. Булич, ее статьи из «Журнала Содружества», а также рецензии на сборники поэтессы.
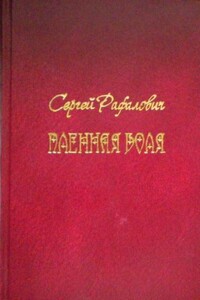
Сергей Львович Рафалович (1875–1944) опубликовал за свою жизнь столько книг, прежде всего поэтических, что всякий раз пишущие о нем критики и мемуаристы путались, начиная вести хронологический отсчет.По справедливому замечанию М. Л. Гаспарова. Рафалович был «автором стихов, уверенно поспевавших за модой». В самом деле, испытывая близость к поэтам-символистам, он охотно печатался рядом с акмеистами, писал интересные статьи о русском футуризме. Тем не менее, несмотря на обилие поэтической продукции, из которой можно отобрать сборник хороших, тонких, мастерски исполненных вещей, Рафалович не вошел практически ни в одну антологию Серебряного века и Русского Зарубежья.