Меланхолия - [10]
Снова вернулся в зал. С угрюмым, суровым видом стоял в углу и смотрел, как беззаботно танцуют веселые люди, эти совсем чужие ему люди...
«Пожалуй, это самый тяжелый вечер в моей жизни»,— подумал он и даже на сердце стало холодно от страшной тяжести. Потеряв всякое желание жить, машинально отвернулся и пошел одеваться.
А вслед ему летели веселая музыка и дружный топот танцующих.
***
Вокруг царил сонный покой, даже кони самых поздних извозчиков уже не цокали на улице по камням. Одинокий фонарь на углу улицы, источавший мрачный желтый цвет, казалось, потускнел еще больше. В номере было тихо и темно, как и во все гостинице.
Лявон лежал и думал и не мог заснуть, лишь все глубже и глубже погружался в то приятно-болезненное состояние, что бывает между сном и явью, но никак не мог заснуть и только мучал себя этим лежанием и думаньем.
Нервная скрипка под аккомпанемент рояля все еще плакала и рыдала, мучительно изливая неведомую печаль. Она вередила в мыслях все то болезненное или просто неприятное, о чем хотелось забыть, чтобы уснуть.
То вдруг приплясывала и гикала она, словно поняв все, что происходило в действительности, и словно захмелев от радости жизни, но на самом деле говоря только о еще большем разочаровании и себе, и всему окружающему миру.
И в то же время опять, сквозь притаенные слезы, но тише, будто от бессилия и отчаяния, жаловалась неизвестно кому: о-ё-ё... о-ё-ё... о-ё-ё...
Это был тот же вальс, размеренный и плавный, только воспринимался он уже иначе: с легкой грустью, такой близкой к безнадежности, когда сердце смертельно сожмется на миг и отпустит, чтобы снова, быть может, сжаться еще страшнее.
Теперь, в одиночестве, трезво поразмыслив в тихой комнате сонной гостиницы, он невольно пожалел, что ушел с вечеринки, не присмотревшись как следует к людям, не познакомившись и не поговорив с ними, а лишь испортив себе настроение. И от этого он начинал злиться.
«Зачем я туда пошел? Почему я не уехал сегодня же?» — иногда приходило ему в голову, и толком не мог понять, спит он или не спит, и никак не мог успокоиться и крепко заснуть.
***
Он уснул, когда за окном уже рассвело, и проспал до полудня. А проснувшись, не хотел вставать, не хотел никуда идти, не хотел ничего делать.
Лежал, словно больной. Взялся писать письмо, и не мог. Взялся читать, и не читалось.
С трудом встав, пошел обедать. И попал в какую-то мрачную и грязную харчевню, где над буфетом висела большая икона божьей матери востробрамской, а у кассы стоял толстый, жирный, с нахально-заискивающей физиономией хозяин. Подавала бедная девушка, очевидно, недавно приехавшая в город. Она с трудом говорила по-польски и еще хуже по-русски. Она всего боялась, и подавать на стол для нее было мукой.
Лявон не мог есть. Ушел в сквер и не мог дождаться вечера, чтобы уехать...
***
С обеих сторон каменной городской улицы, по тротуарам, мимо широких сверкающих витрин и застекленных дверей огромных магазинов, оттуда и туда, суетилась, шевелилась черная волна людей в черных костюмах, шляпах, шапках и шапочках, картузах, платках. Посреди улицы, по каменной мостовой, с грохотом катили ломовики, доверху нагруженные всевозможными ящиками, узлами и каким-то железом. И тут же легко проносились, высекая подковами искры, стройные рысаки извозчиков, развозившие по городу господ, мужчин и дам, в своих удобных экипажах. Звенела, гудела и гулом своим настырно лезла в уши конка. От вокзала долетали разноголосые гудки паровозов, в сумерках они кричали над городом на разные голоса: басовито, сипло, коротко, резко и звонко, протяжно. Замирающие звуки эти вместе с неровным блеском света в высоким уличных фонарях, в минуты, когда вдруг откуда-то сверху срывался и завывал студеный, уже немного осенний ветер,— рождали в сердце неведомую тревогу, непонятное чувство одиночества и удрученности.
«Ладно уж, последний раз погляжу на эту сутолоку»,— прошептал Лявон и не спеша пошел среди человеческого скопища, время от времени задевая кого-нибудь своим портпледом с одеяльцем и подушечкой (корзину свою он сдал на станции на хранение, когда приехал из деревни, и в гостиницу ее не брал).
Хорошо и не совсем хорошо одетые люди — и веселые, улыбающиеся, и грустные, а чаще безразличные ко всему, бежали-спешили, словно на далекий, чужой пожар. Лявон улавливал в их глазах, замечал на их лицах, по какой-то брезгливости и недовольству, что значительная часть этих офицеров с блестящими пуговицами, со звонкими шпорами на сапогах и шашками на боку, немалая часть этих барышень с белыми, розовыми щечками и такими приманчивыми глазками, что даже не верилось, все ли здесь без фальши,— значительная часть этих людей, на вид таких солидных, лишь продолжают играть давным-давно начатую комедию и еще толком не знают, стоит ли этак спешить, потому что в душе пустота, смех неискренний, только так, для вида.
На углу Вокзальной улицы гудки резали уши еще сильнее. Они здесь сливались в общий удивительный и редкостный концерт с рожками стрелочников и рождали ненадежную, мимолетную бодрость. Тут на тротуарах уже не было той господской толчеи, как в центре, лишь время от времени проносились экипажи с пассажирами и дорожными сундуками и пакетами — с вокзала и на вокзал. По обе стороны улицы протянулась аллея старых лип. Густые ветви их укрывали сверху проезжую часть дороги и тусклые фонари. Листва уже осыпалась. Печально шумели деревья, роняя на тротуары первые желтые листочки. Казалось, они тоже прислушивались к отдаленному шуму и вглядывались в одиноких прохожих, да только им, деревьям, было все равно...

Роман представляет собой социальную эпопею, в котрой показаны судьбы четырех поколений белорусских крестьян- от прадеда, живщего при крепостном праве, до правнука Матвея Мышки, пришедшего в революцию и защищавщего советскую власть с оружием в руках. 1931–1933 гг. Роман был переведён автором на русский язык в 1933–1934 гг. под названием «Виленские воспоминания» и отправлен в 1935 г. в Москву для публикации, но не был опубликован. Рукопись романа была найдена только в 1961 г.

Заключительная часть трилогии о хождении по мукам белорусской интеллигенции в лице крестьянского сына Левона Задумы. Документальная повесть рассказывает о честном, открытом человеке — белорусе, которые любит свою Родину, знает ей цену. А так как Горецкий сам был участником Первой Мировой войны, в книге все очень правдиво. Это произведение ставят на один уровень с антивоенными произведениями Ремарка, Цвейга.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Это наиболее полная книга самобытного ленинградского писателя Бориса Рощина. В ее основе две повести — «Открытая дверь» и «Не без добрых людей», уже получившие широкую известность. Действие повестей происходит в районной заготовительной конторе, где властвует директор, насаждающий среди рабочих пьянство, дабы легче было подчинять их своей воле. Здоровые силы коллектива, ярким представителем которых является бригадир грузчиков Антоныч, восстают против этого зла. В книгу также вошли повести «Тайна», «Во дворе кричала собака» и другие, а также рассказы о природе и животных.
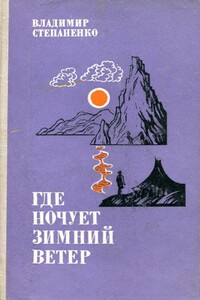
Автор книг «Голубой дымок вигвама», «Компасу надо верить», «Комендант Черного озера» В. Степаненко в романе «Где ночует зимний ветер» рассказывает о выборе своего места в жизни вчерашней десятиклассницей Анфисой Аникушкиной, приехавшей работать в геологическую партию на Полярный Урал из Москвы. Много интересных людей встречает Анфиса в этот ответственный для нее период — людей разного жизненного опыта, разных профессий. В экспедиции она приобщается к труду, проходит через суровые испытания, познает настоящую дружбу, встречает свою любовь.

В книгу украинского прозаика Федора Непоменко входят новые повесть и рассказы. В повести «Во всей своей полынной горечи» рассказывается о трагической судьбе колхозного объездчика Прокопа Багния. Жить среди людей, быть перед ними ответственным за каждый свой поступок — нравственный закон жизни каждого человека, и забвение его приводит к моральному распаду личности — такова главная идея повести, действие которой происходит в украинской деревне шестидесятых годов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.
