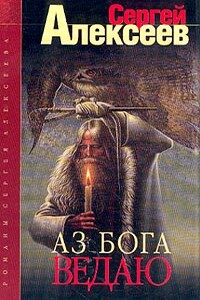Материк - [5]
— Так нам на Алейку надо, — с улыбкой вздохнула мать. — Семь километров, далеко…
Дядя Миша Зпокосу развернул подводу и подъехал впритирку к «музыке».
— Грузи, тилки швыдко! — скомандовал он.
Втроем мы едва завалили на телегу черную, гудящую глыбу «музыки», привязали ее веревкой и поехали. Дядя Миша Зпокосу устроился на передке, а мы с матерью забрались на рояль. Конь у дяди Миши был чудной и редкой масти — пегий. Он больше походил на длинноногую коровенку, чем на лошадь. К тому же задние ноги до самых копыт зимой и летом зеленели: пегаша часто прохватывало. Наверное, конюх мог бы запрягать себе лошадку получше, посправнее, однако почему-то всегда ездил на смешном, неуклюжем коньке. Да и сам дядя Миша сидел на передке смешно, неуклюже и печально.
Пегаш резво взял с места, затрусил тряской рысью, и «музыка» загудела, как гудят телеграфные столбы в ветреную погоду. Мы проехали мимо дяди Мишиного дома, откуда запоздало выскочила его жена и что-то закричала вслед: скорее всего, звала или спрашивала, куда это мы на ночь глядя, но конюх и головы не повернул. Гул в недрах черного ящика все нарастал, казалось, что гудит вся телега и мы с матерью и дядей Мишей тоже гудим. И тут вдруг конюх запел. Сначала тихонько замыкал под музыку, чуть распрямил сутулую спину под дождевиком, а дальше — больше: затянул во весь голос. Я не понимал украинского, но песня выходила печальная, похожая на гул черного ящика, и мне стало жалко дядю Мишу Зпокосу, его нескладного пегаша. Мать тоже загрустила: подвязала туже платок, опустила голову и начала ловить рукой сухие, прошлогодние былинки, что торчали по обочине. А мне еще вспомнилась библиотекарша тетя Фрося, которая умерла от непонятной и диковинной в Торбе болезни — рака, и лилипут вспомнился, вернее, его отчаянное восклицание:
— Нет-нет! Невозможно! Он расстроен!..
И такие жуткие мысли загудели в голове! Я думал: нету теперь тети Фроси, скоро умрет дядя Миша Зпокосу, потом его пестрый конь — они оба уже старые… И мать моя когда-нибудь тоже умрет.
И я — умру.
Дядя Миша чуть ли не все лето пропадал на покосе за Четью и ездил в Торбу только на воскресенье. Он выезжал на берег позже всех покосников, уже затемно, и гулко кричал:
— Дайте лодку-у-у!
И вся округа просила: дайте лодку! дайте лодку! Отец выходил из избы, босой, в кальсонах, и спрашивал — кто там?
— Дядя Миша з покосу! — отвечал дядя Миша, перекрикивая всех коростелей и козодоев.
Отец распоряжался мне сбегать и перевезти дядю Мишу. Я летел на берег, отталкивал лодку и широко махал лопашными веслами… Дядя Миша всегда платил мне за перевоз по десятнику. Деньги у него были казенные, выданные в подотчет, о чем он всегда предупреждал. Но самое главное, пока мы плыли через реку, дядя Миша играл мне на губной гармошке. Долгое время я считал ее чудом света, диковиной, которой владеют только самые счастливые люди. Ни у кого в поселке не было такой гармошки. Куда там все свистки и самодельные свирельки! Дядя Миша Зпокосу вынимал ее из кармана, выколачивал из блестящих отверстий махорку и другой карманный мусор, продувал каждый голос и «давал» плясовую.
— Це гопак! — объяснял он. Музыка была веселая, лихая, но дядя Миша всегда оставался хмурым, озабоченным и печальным. С таким же видом он пихал мне в ладонь казенный десятник…
Так бы и осталась гармошечка чудом, однако всю зависть одним махом развеял Ромка Войтекунас. Счастливый ее обладатель в сорок втором году сдался в плен немцам и три года отыгрывал себе жизнь на губной гармошке. Сначала под нее плясали эсэсовцы из лагерной охраны, потом американцы, которые освободили дядю Мишу…
Между тем «черный ящик» гремел еще пуще, отчего пегаш прибавлял рысь и только косился назад красным, кровяным глазом. Куда лучше играла губная гармошка! От нее хоть весело было, пусть даже она — немецкая. А эта «музыка» — большая, тяжелая, черная и гудит страшно. Неужели она так и будет всегда играть? Может, она со времен лилипута совсем испортилась и для веселой не годится?..
— А ну, дядь Миша, давай что-нибудь повеселее! — неожиданно сказала мать. — Ты тянешь, будто заупокойную!
Дядя Миша осекся, покорно вздохнул, ссутулившись, и проронил:
— Можно и веселее…
Мать же сдернула с головы платок, встряхнула косами, отчего те как-то сразу распустились, рассыпались холстяной дорожкой.
Эх, да как по речке, да по водице
Сизый селезень плывет…
Мать взмахнула платком, подперлась руками и, не слезая с телеги, — показалось мне — в пляс пошла! И будто каблуками отстукивает, и ее высокая, под кофточкой, полная молока грудь (в то время младшенький Пашка грудничком был) так и вздрагивает, как у баб, что на гулянке на круг вышли и ну друг перед другом выплясывать! А тут еще мы песчаную дорогу по бору проехали — осинник пошел, ухабины и колдобины. «Черный ящик» растрясло, зазвенел он, заговорил, словно отцовская русская гармошка! Я сразу почуял, что никто никогда не умрет и что возле моего бока стоит сидор с горячим хлебом и греет сквозь одежду. Дядя Миша понужнул коня длинным рукавом дождевика, пегаш наддал, и «музыка» еще четче и задорнее стала выводить:
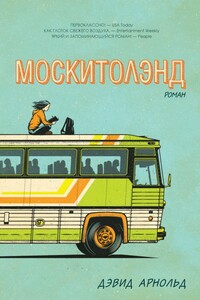
Родители Мим развелись. Отец снова женился и увез дочь в Миссисипи. Еще не улеглась пыль после переезда, как Мим узнает, что ее мама больна. Не задумываясь, девушка бросает все и прыгает в автобус, идущий до Кливленда. Музыка. Боевая раскраска. Дневник. 880 долларов и 1000 миль приключений впереди…
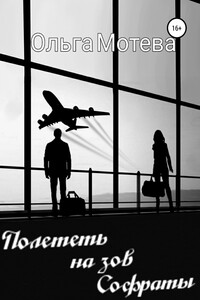
Отправляясь в небольшую командировку в Болгарию, россиянка Инга не подозревала о том, что её ждут приключения, удивительные знакомства, столкновения с мистикой… Подстерегающие опасности и неожиданные развязки сложных ситуаций дают ей возможность приблизиться к некоторым открытиям, а возможно, и новым отношениям… Автор романа – Ольга Мотева, дипломант международного конкурса «Новые имена» (2018), лауреат Международного литературного конкурса «История и Легенды» (2019), член Международного Союза писателей (КМ)
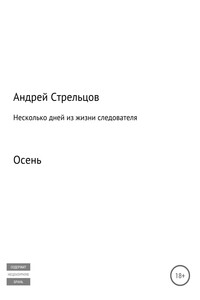
Жизнь и приключения девушки-следователя в текущей реальности и в её представлениях о ней. Содержит нецензурную брань.Эта книга – участник литературной премии в области электронных и аудиокниг «Электронная буква – 2019». Если вам понравилось произведение, вы можете проголосовать за него на сайте LiveLib.ru http://bit.ly/325kr2W до 15 ноября 2019 года.
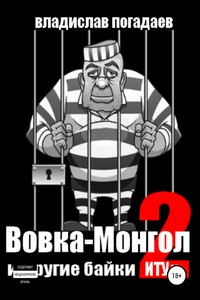
Этот сборник включает в себя несколько историй, герои которых так или иначе оказались связаны с местами лишения свободы. Рассказы основаны на реальных событиях, имена и фамилии персонажей изменены. Содержит нецензурную брань единичными вкраплениями, так как из песни слов не выкинешь. Содержит нецензурную брань.Эта книга – участник литературной премии в области электронных и аудиокниг «Электронная буква – 2019». Если вам понравилось произведение, вы можете проголосовать за него на сайте LiveLib.ru http://bit.ly/325kr2W до 15 ноября 2019 года.
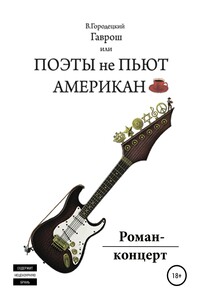
Современная увлекательная проза, в которой знатоки музыки без труда узнают многих героев рок-н-ролла. А те, кто с роком не знаком, получат удовольствие от веселых историй, связанных с познанием творчества как такового, а порой просто веселых и смешных. Содержит нецензурную брань.Эта книга – участник литературной премии в области электронных и аудиокниг «Электронная буква – 2019». Если вам понравилось произведение, вы можете проголосовать за него на сайте LiveLib.ru http://bit.ly/325kr2W до 15 ноября 2019 года.
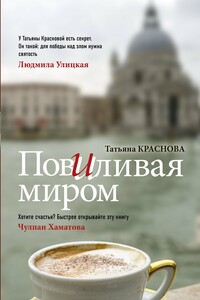
Татьяна Краснова написала удивительную, тонкую и нежную книгу. В ней шорох теплого прибоя и гомон университетских коридоров, разухабистость Москвы 90-ых и благородная суета неспящей Венеции. Эпизоды быстротечной жизни, грустные и забавные, нанизаны на нить, словно яркие фонарики. Это настоящие истории для души, истории, которые будят в читателе спокойную и мягкую любовь к жизни. Если вы искали книгу, которая вдохновит вас жить, – вы держите ее в руках.