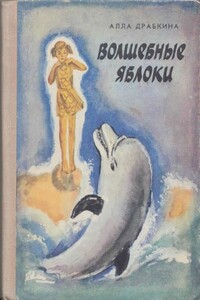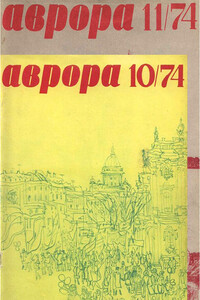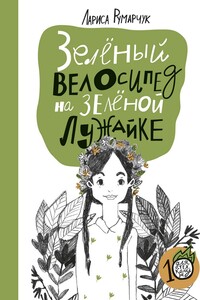Дело в том, что каждый из братьев считал другого Дураком. Дядя с высоты своего положения говорил отцу об этом прямо, отец дяде об этом никогда не говорил. Не потому, что уважал брата за высокий сан, а просто считал бесполезным, что тоже было умно — не спорить с дураками. Дядя оскорблял отца, выводил его из себя, но вывел всего лишь раз, когда посягнул на Льва Толстого. Толстой был страстью отца, они с матерью читали его вслух, на детских его книгах учили Покровского грамоте. И отец отказался публично предать его анафеме, когда Толстой был отлучен от церкви.
— Вы не знаете человека, вы не знаете его, — кричал отец дяде, — вы рвете друг у друга шапки и ризы, боитесь истинной веры, боитесь истинных людей!
— Погоди, грядет антихрист, — возражал дядя, — и первое, что сотворит он — сожжет книги Толстого и развеет по ветру прах. Любезный тебе мужик с вилами сотворит это.
В такие минуты старик ненавидел своего брата (а мог старик ненавидеть!), но и жалел, и молился за его душу. Но это если вспоминать о серьезных спорах отца с дядей, о редких вспышках страстей.
Вообще же отец был смешлив, способен на паясничество, на игру, даже на розыгрыши. Что–то иронически–игровое было в его отношениях с матерью. Они, например, называли друг друга «батюшка» и «матушка», слегка даже обманывали друг друга, стремясь тишком–молчком помочь кому–то, утаив эту помощь друг от друга. («Правая рука не должна знать, что делает левая…») Хитрые мужики знали об этом и, подобно ласковому теленку, сосали двух маток, пока отец или божьи старушки, жившие при церкви, не выводили хитрецов на чистую воду. Быть обманутым отец не любил, и если уличал кого, то мог устроить целый спектакль по разоблачению, поставить зарвавшихся на место, не унижая их и не оскорбляя, а лишь посмеиваясь. Мужики, редко наведывающиеся в церковь, частенько ходили к попу в дом — поговорить, подумать, пошутить над кем, обсудить дела.
Молодой Покровский в священники не метил, да и отец на этом не настаивал, скорее даже наоборот — пробуждал интерес сына к мирским делам, к ремеслам. Бездетный дядя скрепя сердце согласился платить за учебу племянника на инженера–путейца.
Сейчас Покровский с трудом вспоминает, зачем понадобилось ему стать путейцем. Наверное, потому, что железная дорога по тем временам была чем–то очень важным, выводящим в большие города, в мир.
Он учился на инженера уже два года, когда грянула первая мировая. И, конечно же, он пошел на войну, хотя мог этого и избежать. Сам того не ведая, он воспринял отцовское отношение к жизни. Еще в молодости он определил себя самого как «народ», и потому, когда народ, подобно скоту, погнали на бойню войны, Покровский пошел сам, своею волей. Получил чин подпоручика, в этом чине из войны и вышел, отслужив всего лишь год, а еще год проведя в немецком плену. Было ему двадцать два, был он болен, хром, вшив и одет в лохмотья. Но он снова был дома, с батюшкой и матушкой, в то время как многие из его товарищей продолжали оставаться в плену. Свой побег он считал счастливым случаем и очень бы удивился, если б ему сказали, что это его заслуга. Однажды записав себя внутренне в народ, Покровский жил по народному закону — умел терпеть, не выставляться напоказ, не любить себя сверх меры, думать о других, а потому в его умении рисковать собой была уже заранее заложена удача — не из гордыни он рисковал, не из молодечества, а потому не делал тех досадных промахов, которые делали обычно себялюбцы. Родители ходили за ним, отогревали, лечили, но все–таки хромым Покровский останется на всю жизнь, хотя об этом мало кто будет догадываться.
Не кто иной как великий Мейерхольд создаст Покровскому его теперешнюю летящую, с прискоком, походку, и именно у Мейерхольда научится Покровский исправлять походку, голос и манеры своих учеников, делать из недостатков достоинства, если человек, конечно, не виноват в этом недостатке, а наделен им от природы.
Те, кто будет корить Покровского за эту его способность, принадлежат к породе забывчивых. Часто это ярые и сентиментальные «воспоминатели» о Мейерхольде, начисто позабывшие основные принципы и методы их общего учителя. Покровский же всегда помнил о том, чему его научил Мейерхольд.
И вот теперь он может лишь заложить фундамент нового театра, выхватить из тысяч желающих прославиться молодых людей хотя бы просто способных, а если повезет — одного–двух талантливых. Скромных, но щедрых и отважных, не мелочных, не завистливых, не наглых.
В этот раз, набирая курс, Покровский позволил себе небольшой эксперимент — набрать людей постарше, в критическом для поступления в институт возрасте, как говорится «на грани». Замышлял он это давно, но все не решался, не считал себя вправе, поскольку замысел был очень уж личностный. Дело в том, что сам он попал в театр только в двадцать семь лет, с германской и гражданской за плечами, хромой, с сединой в волосах. В гражданскую он оказался в агитпоезде, потому как ни для пехоты, ни для конницы не годился.
Все доселе неизвестные ему занятия: агитация, солдатская самодеятельность, сочинение пьес на злобу дня, писание декораций, тут же стрельба, вождение паровоза — все это, как ни странно, было Покровскому по зубам.