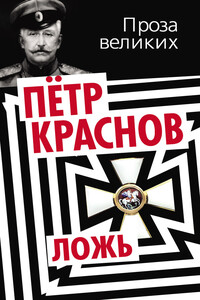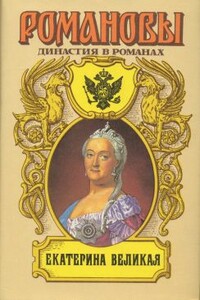Пароходъ расцвѣчивается огнями. На палубу вынесли пьянино и звенитъ медлительное танго, а потомъ кто нибудь поетъ. Коля слушаетъ, сидя подлѣ Стайнлея въ тѣни каютной рубки, и кажется ему, что это Люси поетъ:
— Partir — c'est mourir un peu…[91]
Но… пріѣхать — воскреснуть. И какъ радостно и сладко это воскресеніе!
Уже говорили: — прошли мимо Италіи. Миновали Сицилію съ таинственнымъ дымкомъ надъ Этной, и вотъ, въ одно дивно прекрасное утро, зоркіе глаза французовъ увидали на горизонтѣ, гдѣ чуть мережилъ розово-лиловый берегъ золотую точку марсельской Notre-Dame de la Garde…
И все засуетилось, зашумѣло, загомонило и со скрипомъ начали раздвигать трюмы и бросать тяжелыя доски на палубу…
Загудѣли гудки. Пароходъ задержалъ свой бѣгъ. Подходили къ Жоліеттъ…
Парижскій экспрессъ выходилъ изъ Марселя въ 7 часовъ утра и приходилъ въ Парижъ въ пять часовъ, десять минутъ утра на другой день. Коля не хотѣлъ, чтобы мамочка безпокоилась такъ рано, но не удержался, послалъ изъ Марсели телеграмму: — «выѣзжаю — семь утра». Думалъ: — не догадается мамочка посмотрѣть, когда приходитъ поѣздъ въ Парижъ.
Коля ѣхалъ одинъ. Стайнлей остался въ Марсели. Онъ хотѣлъ пробыть весну возлѣ Ниццы, на Котъд-Азюръ, чтобы подлѣчить затронутое раной легкое.
Въ утреннихъ, сырыхъ и влажныхъ туманахъ показался Парижъ. Пошли частые тоннели, гдѣ пахло вонючимъ дымомъ и тускло мерцали перегорѣлыя, точно усталыя электрическія лампочки. Потомъ мчались мимо маленькихъ домиковъ съ опущенными ставнями. Въ бѣломъ пуху стояли вишни и яблони и въ полумракѣ чуть брежжущаго разсвѣта казались особенно прекрасными. На огородахъ блистали стеклянные колпаки надъ разсадой. Люди еще не вставали. Все спало и странно пустынны были глухія улицы предмѣстій въ Шарантонѣ. Венсенскій лѣсъ сквозилъ за домами, угрюмый, чуть опушенный пробивавшейся листвой, и сырой. Влетали въ туннели, ныряли подъ улицы и снова стучали по эстакадамъ и сонные дома глядѣли окнами съ опущенными шторами. Кое гдѣ сквозь занавѣски виднѣлся свѣтъ. Рабочіе вставали.
Какъ то вдругъ, послѣ грохота по безчисленнымъ стрѣлкамъ, пронесясь мимо длинныхъ вереницъ товарныхъ вагоновъ, мимо двухэтажныхъ вагончиковъ пригороднаго сообщенія, просвиставъ какимъ то длиннымъ, радостно задорнымъ свистомъ, поъздъ окутался горячимъ паромъ, пахнулъ въ лицо Колѣ запахомъ горячаго масла и нефти и сразу задержалъ свой бѣгъ, вздохнулъ тормазами, и уже показались черныя, влажныя площадки, освѣщенныя фонарями, борющимися съ разсвѣтомъ, и синія блузы съ алыми нашивками, выстраивавшихся рядами носилыциковъ. Почти не было встрѣчающихъ — и тѣмъ яснѣе и четче стали видны двѣ женщины, отъ вида которыхъ такъ сильно забилось Колино сердце, что казалось разорветъ кожу и выпрыгнетъ наружу.
Ну, конечно, — мамочка въ черной шляпкѣ, въ своемъ старомъ поношенномъ желтомъ непромокаемомъ пальто, и — въ бѣлой шапочкѣ, принаряженная и выросшая Галина.
Коля ихъ сразу увидалъ, a онѣ не узнали его. Могли-ли онѣ въ этомъ изящно одѣтомъ въ прекрасный сѣрый костюмъ и въ шляпу съ широкими полями молодомъ человѣкѣ съ темными усиками надъ губою, пронесшемся мимо нихъ въ окнѣ второго класса, узнать бѣднаго мальчика Колю? Онѣ искали его въ заднихъ вагонахъ третьяго класса и Коля побѣжалъ къ нимъ.
Первая увидала его Галина. Увидала и удивилась, по крайней мѣрѣ въ ея возгласѣ:
— Коля? — было столько же радости, сколько вопроса и недоумѣнія.
Коля упалъ въ объятія мамочки. Онъ не видѣлъ ея лица и только чувствовалъ, какъ, щекоча его, били по его щекамъ ея мокрыя рѣсницы и горячія капли текли изъ глазъ мамочки по его подбородку. И самъ не замѣчая того, Коля плакалъ.
— Ну вотъ… Ну вотъ, — говорила Галина и заливалась слезами.
Но это продолжалось мгновеніе. Какое сладкое, чудное, незабываемое мгновеніе!
Уже шли въ толпѣ пассажировъ къ желѣзнымъ загородкамъ, и, идя въ этой толпѣ, Коля спросилъ мамочку:
— A дѣдушка Селиверстъ Селиверстовичъ?
— Двѣ недѣли тому назадъ приказалъ долго жить. Коля снялъ шляпу и перекрестился.
— Царство ему небесное, — печально сказала мамочка. — Ты, Коля, представить себѣ не можешь, какъ ты хорошо сдѣлалъ, пославъ мнѣ эти деньги по телеграфу. Они пришли на другой день послѣ дѣдушкиной смерти. У меня оставалось пять франковъ! Насъ гнали изъ гостинницы. Благодаря твоей посылкѣ удалось, какъ слѣдуетъ, по христіански, по православному, похоронить дѣдушку, въ землѣ, какъ онъ и хотѣлъ. Богъ тебя надоумилъ это сдѣлать, мой милый.
И тутъ же рѣшили, напившись кофе, поѣхать прежде всего на могилу Селиверста Селиверстовича и тамъ помолиться.
Дѣдушка былъ похоронепъ за городомъ, на Русскомъ кладбищѣ, недалеко отъ Русскаго дома. Его могила была рядомъ съ могилой его боевого соратника-туркестанца, генерала Калитина.
Дорогой дубовый, восьмиконечный крестъ стоялъ на его могилѣ, и подлѣ руками казаковъ и туркестанцевъ была посажена «калинка родная». Зеленыя почки на ней опушились блѣдными листиками.
Галина всю дорогу на кладбище, на могилѣ, гдѣ старый священникъ служилъ панихиду, и когда ѣхали обратно въ Парижъ, молчала. Но, когда въ Парижѣ они сѣли въ такси и Галина очутилась противъ Коли, она осторожно дотронулась пухлой ручкой, затянутой, какъ у взрослой, въ перчатку, до колѣна Коли и сказала просительно: