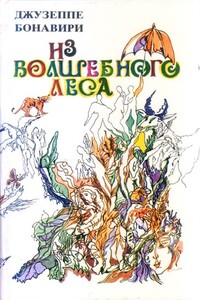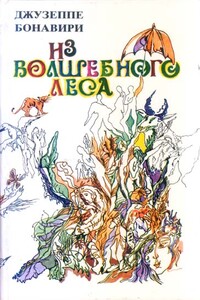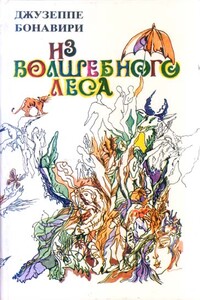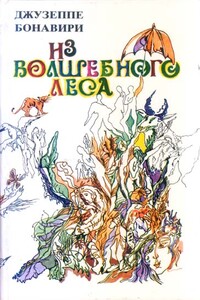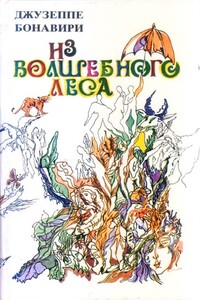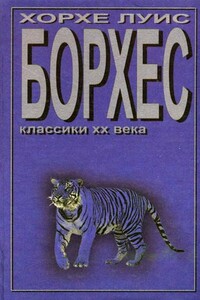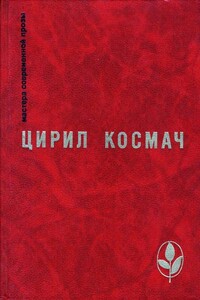— Эге-гей!
Он вздрагивал от неожиданности.
— A-а, это ты, Папе-чума? Побудь со мной, пока сыновья не вернулись. Слышишь, какой запах? — говорил он, вдыхая принесенные ветром ароматы цветущего луга. — Розы так не пахнут, да и нет их у нас в округе, это какой-то очень легкий, очень нежный запах. Чувствуешь?
И пока я по привычке подсыпала соль в стоящие на пороге кувшины с водой, он говорил о
розах,
о всевидящих анютиных глазках, обращенных к луне,
о прозрачных ветвях, наполненных светом,
о жизни, идущей на убыль,
о тщете солнечных приливов.
Прежде чем уйти, я ловила осколком стекла солнечный луч и направляла на него.
— Благослови тебя Бог, Папе, ты отогрела мне руки и душу.
Я шла посмотреть, как спит Пеппи Титта, свесив голову с продетой в ухо серьгой, сверкающей колючим блеском, а затем садилась у какой-нибудь лачуги и принималась ласково баюкать свою каменную куклу:
— Спи, моя кровинушка, спи, моя красавица, не кричите, птицы, не вейтесь, травы, не будите мою доченьку, мамочка с тобой, Боженька на небе.
И когда моя кукла — неважно, что это был всего-навсего камень, — засыпала, я потихоньку срывала душистую веточку базилика, чтобы навеять ей сладкие сны. А после, усталая, бродила по нашей каменистой земле, стараясь держаться тени: на солнце мысли мои разбегались.
В полдень над деревней начинали звонить колокола, но не все сразу, а по очереди, один за другим. Самым громким и торжественным был колокол Святой Агриппины: звуки его шли волнами, сгущаясь и мерно нарастая, а потом дробились на мелкие всплески и затухали в пыли. Услышав колокольный звон, я запрокидывала голову, подставляя лицо гулким волнам. Когда звуки стихали даже над равниной и над горой Камути, я прикладывала ухо к стене, чтобы уловить последние отголоски.
— Зачем духов тревожишь? — говорила, проходя мимо, какая-нибудь женщина. — А ну, не подслушивай!
В глубоких трещинах стен что-то дрожало, дрожь эта передавалась ползущим по стене стеблям, и казалось, что звуками опутан весь мир.
А еще в полуденном звоне над Минео слышались голоса колоколов Святого Петра, Святой Марии и Святого Иосифа: первый веселил душу, торопя прервать дневные дела, второй, звонкий, держался совсем недолго и вскоре таял в струистом мареве у подножия Аркурских гор; третий — из монастыря капуцинов — падал в песчаные карьеры и сразу же взмывал вверх, полный благодати. Куры в этот час засыпали в тенечке, спрятав голову под крыло. И опять слышался тревожный голос моей сестры Яны:
— Папе, ты где? Где ты, Папе?
Я возвращалась к Салемским воротам по раскаленной тропинке, которая, казалось, вот-вот вспыхнет, и просила у встречной женщины хлеба.
— Ай-яй-яй, дочка главного на свете пекаря — и просит хлеба. Ну и ну!
На улицах не было ни души, но вдали, где начинались поля, я замечала крестьянина, заснувшего в тени оливы под колокольный перезвон. Я поднималась на вершину холма, и перед глазами у меня мельтешили, переливаясь на солнце, жаворонки.
— Не пойду домой, — говорила я себе. — Все равно уж мне не поспать: только ляжешь — опять вставай хлеб печь.
Я плела венки из ромашек для своей каменной куклы.
— Нравится тебе? — спрашивала я ее.
Мне так хотелось, чтобы у нее выросли длинные черные волосы, блестящие-блестящие, на зависть всей округе.
— Вы только посмотрите, какая красивая кукла у этой девчонки, просто чудо!
Но, глядя вниз, на равнину, я видела солнце — в каждой ветке оливы, в каждом листике миндаля, и от этого света глаза мои начинали слипаться. Чтоб не заснуть, я принималась петь своей кукле заунывные колыбельные песни:
Я мою доченьку грудью кормлю,
Я мою доченьку очень люблю.
Вокруг порхали разноцветные бабочки, и я сердилась.
— Улетайте прочь, от вас только еще больше спать хочется.
Незаметно я засыпала, и мне снились блеющие стада, живительные лучи света, острова и островки тени.
Чего только не болтают про Папе Казаччо, думала я сквозь сон и блеянье серебристых овец.
Будил меня обычно мой брат Джованни.
— Эй, чума, просыпайся! А то травой зарастешь.
И правда: вокруг пальцев у меня вились веточки плюща, а в волосах цвели ромашки. Здесь, в зеленой норе, среди причудливых растений, было так уютно, и мне казалось, что оливы с берегов Фьюмекальдо золотыми шарами катятся мне навстречу.
— Куда ты? — кричал мне вслед Джованни.
Я бежала к сестрам Чентаморе, которым было за восемьдесят и у которых меня всегда ждал целый букет сказок: в детстве я их хорошо помнила, да вот подзабывать стала в преклонные годы, когда молодость все дальше улетает, будто крылатый конь или шумная стая лесных птиц.