Маленькая фигурка моего отца - [13]
Я закрываю пишущую машинку, надеваю пальто: надо бы навестить мать. «Отца пока нет, — размышляю я, садясь в трамвай, — ей одиноко, она обрадуется, если я появлюсь». Хотя у меня в кармане лежал заранее купленный билет, я не стал его компостировать и поехал зайцем. Однако, заметив, что на остановке Матцляйнсдорферплатц стоит контролер, я испугался, потому что в моем сознании всплыло первое непосредственное воспоминание об отце.
Я увидел, как он, держа пинцетом стопку влажных фотографий, появляется из темной дыры подвала, где оборудована фотолаборатория, и взбегает вверх по ступенькам. Моментальный снимок, на котором запечатлелось его движение, почти повторял рисунок из «Степки-растрепки», изображавший ПОРТНОГО С НОЖНИЦАМИ.[8] Сам я в этот миг стоял на решетке перед входом, отряхивал ботинки от снега и, закинув голову, звал маму, надеясь, что она наверху меня услышит. «Ты очень долго не выговаривал букву “р”, - говорила она, — и вместо “Роза” у тебя получалось “Гоза”».
Вероятно, мне было тогда года три с половиной; о том, как мой отец вернулся с фронта примерно за год до этого, у меня не осталось никаких воспоминаний. Помню лишь, как по вечерам мама сидит у моей детской кроватки и нежным девичьим голосом напевает «НА КРЫШЕ МИРА…».[9] Вот она приносит мне чашку чая и таблетку аспирина, потому что у меня поднялась температура. Вот она чистит мне апельсин длинными, ярко-красными ногтями.
Но это, скорее всего, было уже не на Хоймюльгассе, 12, а на Кайнергассе, 11 — коллега отца уступил ему свою квартиру, частично разрушенную прямым попаданием снаряда. Жена и дочь этого человека погибли спустя несколько дней после окончания войны — ночью, во время бури, вниз обрушилась вся спальня, которой отныне в квартире не было. Помню дверь, она вела в никуда, на кучу щебня, и отворять ее запрещалось.
Отец вроде бы забил ее гвоздями, но, возможно, это только мои домыслы. Зато точно помню, как он однажды забрался на крышу починить прохудившуюся кровлю. В другой раз отвинтил шпоночную стенку какого-то шкафчика, как сейчас вижу: он стоит на коленях, с отверткой в руках, а я замер и одновременно гадливо и завороженно слежу за тем, как он отсоединяет стенку, а под ней, это я знал наверняка, кишмя кишат клопы.
Отец работал тогда в газете «Вельтиллюстрирте», финансировавшейся русскими оккупационными властями, и в тысяча девятьсот сорок седьмом году, когда мне было четыре, поехал в румынский пересыльный лагерь Марамарош-Сигет фотографировать эшелоны военнопленных, которые формировались там для отправки на родину. В Марамарош-Сигете он пробыл примерно полгода, потому что процесс возвращения из русского плена существенно затянулся, а за это время я его прочно забыл. Помню, что пока его не было, я чаще всего спал в маминой кровати. Когда однажды утром обнаружилось, что рядом с мамой лежит он (мне кажется, меня разбудил его голос, его шепот или какое-то движение), я поначалу даже не хотел его узнавать.
— Как хорошо, что ты зашел меня проведать, — сказала мама, — знаешь, я так беспокоюсь за папу. Врачи говорят, если все пойдет нормально, в больнице его продержат месяца два. А вдруг что случится… Иисус и Мария, я даже и думать-то об этом боюсь. Вот вспомню, как мой отец умер: раз, — и нет его, и бабушка осталась в пустой квартире одна-одинешенька, — и слезы на глаза наворачиваются.
Знаешь, к человеку привыкаешь, если столько лет с ним прожил. Вот, например, иногда хочется после ужина сесть на кухне газетку почитать, днем-то столько дел, руки не доходят, а папа уже в постели и зовет меня: «Роза, иди сюда!», — просто потому, что привык, что я рядом, а если меня нет, он сразу раздражается и потом заснуть не может, и вот это все мне ужас как действует на нервы. А теперь, когда я могу часами сидеть на кухне и спокойно дочитывать все начатые и брошенные газеты, целую стопку, которая за последние недели скопилась, мне не хватает его крика: «Роза!» А потом я внезапно слышу, как тикают часы или капает из крана вода, и чувствую такое страшное одиночество. А потом иду в ванную стирать белье, которое там меня дожидается. Твой брат давно переехал, твою сестру я вижу в лучшем случае рано утром, но белья от этого не меньше. Или начинаю мыть посуду, ее там вечно целая гора. Никого, кроме меня, в доме нет, ем я одна, а посуды все больше и больше. Знаешь, когда твой папа в грязных ботинках шлепает прямо в комнату мимо тапок, которые я ему приготовила, или плюет на пол вишневые косточки, хотя я специально поставила тарелку, я, конечно, ужасно злюсь. «Чего ради я надрываюсь, — думаю я иногда, — зачем чищу и мою с утра до вечера, если он даже не замечает»? А теперь, когда я без помех могу все убрать, вымыть и вычистить до блеска, когда никто не отвлекает, мне все это не в радость. И тогда я опять сажусь за стол, и часами гляжу в одну точку, и ничегошеньки-то мне больше не хочется.
А ты пришел-то зачем? В отцовых военных бумагах покопаться? Не знаю, может быть, ему бы это и не понравилось. С другой стороны, можно ему и не говорить, иди в лабораторию и ищи, что тебе нужно. Может быть, там еще и письма остались, которые мы друг другу посылали с полевой почтой, — читай, только не смейся, мы же тогда были совсем зеленые и глупые. Один раз папа мне кое-что прочитал вслух, так я сама смеялась… Что поделаешь, годы идут, люди меняются.

Есть люди, которые расстаются с детством навсегда: однажды вдруг становятся серьезными-важными, перестают верить в чудеса и сказки. А есть такие, как Тимоте де Фомбель: они умеют возвращаться из обыденности в Нарнию, Швамбранию и Нетландию собственного детства. Первых и вторых объединяет одно: ни те, ни другие не могут вспомнить, когда они свою личную волшебную страну покинули. Новая автобиографическая книга французского писателя насыщена образами, мелодиями и запахами – да-да, запахами: загородного домика, летнего сада, старины – их все почти физически ощущаешь при чтении.
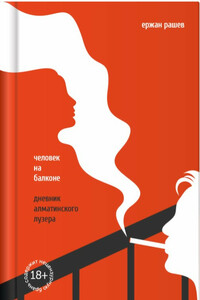
«Человек на балконе» — первая книга казахстанского блогера Ержана Рашева. В ней он рассказывает о своем возвращении на родину после учебы и работы за границей, о безрассудной молодости, о встрече с супругой Джулианой, которой и посвящена книга. Каждый воспримет ее по-разному — кто-то узнает в герое Ержана Рашева себя, кто-то откроет другой Алматы и его жителей. Но главное, что эта книга — о нас, о нашей жизни, об ошибках, которые совершает каждый и о том, как не относиться к ним слишком серьезно.
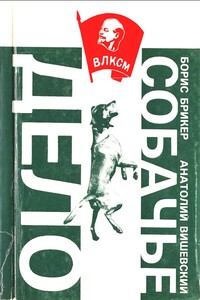
15 января 1979 года младший проходчик Львовской железной дороги Иван Недбайло осматривал пути на участке Чоп-Западная граница СССР. Не доходя до столба с цифрой 28, проходчик обнаружил на рельсах труп собаки и не замедленно вызвал милицию. Судебно-медицинская экспертиза установила, что собака умерла свой смертью, так как знаков насилия на ее теле обнаружено не было.

Восточная Анатолия. Место, где свято чтут традиции предков. Здесь произошло страшное – над Мерьем было совершено насилие. И что еще ужаснее – по местным законам чести девушка должна совершить самоубийство, чтобы смыть позор с семьи. Ей всего пятнадцать лет, и она хочет жить. «Бог рождает женщинами только тех, кого хочет покарать», – думает Мерьем. Ее дядя поручает своему сыну Джемалю отвезти Мерьем подальше от дома, в Стамбул, и там убить. В этой истории каждый герой столкнется с мучительным выбором: следовать традициям или здравому смыслу, покориться судьбе или до конца бороться за свое счастье.

Взглянуть на жизнь человека «нечеловеческими» глазами… Узнать, что такое «человек», и действительно ли человеческий социум идет в нужном направлении… Думаете трудно? Нет! Ведь наша жизнь — игра! Игра с юмором, иронией и безграничным интересом ко всему новому!
