Любовница Витгенштейна - [82]
Из многочисленных зеркальных позиций, которые предлагает «ЛВ», Кейт в первую очередь идентифицирует себя с таким историческим персонажем, как Елена из Трои/Гиссарлыка — «этот лик, что тысячи судов гнал в дальний путь»[28] и тело, лежащее под впечатляющей горой павших в Троянской войне[29]. Средством этой идентификации с Еленой является отчетливо женское чувство «ответственности»: как Елене из «Илиады», Кейт не дает покоя пассивное чувство, что «во всем виновата она». И неоднократные попытки Кейт защитить Елену от обвинений в подстрекательстве к войне, унесшей жизни ионийских мужей, чрезвычайно настойчивы и пронзительны, что свидетельствует о яростном протесте:
Я всегда искренне сомневалась в том, что Елена была причиной той войны, между прочим.
Одна спартанка, в конце концов.
На самом деле, определенно, все дело было в коммерции. Все эти десять лет[30] — только чтобы посмотреть, кто кому будет платить за возможность пользоваться проливом...
Тем не менее я нахожу удивительным то, что молодые люди умерли там на войне, которая была давным-давно, а потом умирали в том же месте три тысячи лет спустя (с. 76-77).
Вопросы, встающие в связи с Еленой, женской сущностью и виной, маркируют некое переключение в этом романе и в его прочтении. Я уже упоминал, что примечательной особенностью «Любовницы Витгенштейна», написанной мужчиной, является то, что роман состоит целиком из слов женского персонажа? И я считаю, что именно сквозь призму гендера и аутентичности книга Марксона незамедлительно предстает наименее ошлифованной и наиболее интересной. Наиболее соответствующей 1988 году. Наиболее важной не просто как литературная транспозиция философской позиции, но и как выход за пределы общепринятой доктрины. Здесь Декарт, Кант и Витгенштейн из явных критических ориентиров превращаются в инициаторов небезупречного, но трогательного размышления об одиночестве, языке и половой идентичности.
Понимаете, Гомерова Елена «виновата» в конечном итоге не тем, что она сделала, а тем, кем она является, что собой представляет, как выглядит; своим воздействием — гормональным/эмоциональным — на мужчин, готовых убивать и умирать ради возникшего в них чувства. Кейт, как и Елену, преследует невысказанное, но гнетущее ощущение того, что «во всем виновата она [сама]». В чем именно? Как близка она к Елене, о которой пишет?[31] Ну, во-первых, легко заметить, как радикальный скептицизм — ад Декарта и адово преддверие Кейт — порождает одновременно всемогущество и нравственный гнет. Если мир всецело является производной функцией фактов, которые не только находятся внутри, но и сыплются градом из головы, то человек ответствен за этот мир не меньше, чем мать — за свое дитя или за саму себя. Это кажется вполне очевидным. Но что менее ясно и гораздо более ценно, так это тот особый уклон, который такое всемогущество приобретает, когда ответственная монада исторически пассивна, воспринимается и осмысляется как объект, а не субъект, то есть когда монада- женщина, способная вызвать перемену и катаклизм не как агент, но лишь как воспринимаемая сущность... воспринимаемая исторически активными тестостероидами, чьи железы прямо-таки извергают деятельность. Быть объектом желаний (волосатых персонажей), размышлений (волосатого автора), быть самой «продуктом» мужских голов и копий — значит быть почти классически феминизированной, не столько как Ева, сколько как Елена, «ответственная» без свободы выбирать, действовать или уклоняться. В [моей] слишком обобщенной трактовке в общепринятом западном представлении о женщинах как о носителях моральной ответственности можно выделить «эллинскую» и «эвинскую» ответственности; я готов поддержать тех, кто считает, что Марксон, несмотря на свои худшие намерения, умудряется взять верх над более чем 400-летней постмильтоновской традицией и изобразить эллинский вариант как более трогательную (и определенно более уместную) ситуацию женщины в любой системе, где внешность остается «картиной» или «картой» онтологии. Такое представление не кажется мне ни до-, ни постфеминистским: оно просто чертовски изобретательно, даже гениально; и поэтому (несмотря на некоторые просчеты авторского замысла и смелости) роман воспаряет или падает сам по себе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
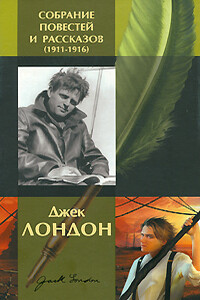
Русские погранцы арестовали за браконьерство в дальневосточных водах американскую шхуну с тюленьими шкурами в трюме. Команда дрожит в страхе перед Сибирью и не находит пути к спасенью…
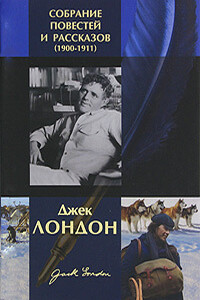
Неопытная провинциалочка жаждет работать в газете крупного города. Как же ей доказать свое право на звание журналистки?
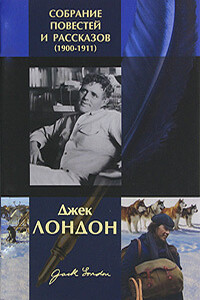
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
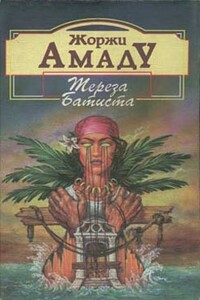
Латиноамериканская проза – ярчайший камень в ожерелье художественной литературы XX века. Имена Маркеса, Кортасара, Борхеса и других авторов возвышаются над материком прозы. Рядом с ними высится могучий пик – Жоржи Амаду. Имя этого бразильского писателя – своего рода символ литературы Латинской Америки. Магическая, завораживающая проза Амаду давно и хорошо знакома в нашей стране. Но роман «Тереза Батиста, Сладкий Мёд и Отвага» впервые печатается в полном объеме.
