Любовница Витгенштейна - [80]
Томас Пинчон, сделавший для паранойи в литературе примерно то же, что Захер-Мазох сделал для плеток, объясняет в «Радуге тяготения», почему параноидальные идеи о полной и злонамеренной связи, несмотря на всю их бредовость и неприятность, как минимум предпочтительнее противоположной им убежденности в том, будто ничто не связано ни с чем другим и ничто, по сути, не имеет отношения к тебе. Обратите внимание, что эта пинчоновская контрпаранойя оказалась бы вполне подходящей метафизикой для любого жителя того мира, что описывает «Трактат». Героиня Марксона живет как раз в таком мире, и ее беспредметное письмо прекрасно это «отражает», передавая психический колорит и солипсизма, и философии Витгенштейна посредством простой, безэмоциональной, но сюрреалистичной прозы и коротких афористичных абзацев, которые тоже явственно напоминают «Трактат». Текстуальная одержимость Кейт обусловлена просто поиском связей между вещами[22], любых нитей, сплетающих исторические факты с эмпирическими данными, а ничего другого в ее мире и нет. При этом подлинные связи всегда — неизбежно — ускользают от нее. Все, что ей удается обнаружить, это случайная синхронность: так, некоторые имена достаточно схожи, чтобы вызвать глубокое замешательство, — например, Уильям Гэддис и Тадео Гадди, а некоторые жизненные пути и события пересеклись в пространстве и времени. И даже эти весьма слабые связи оказываются не «реальностью», а свойствами ее воображения, и даже как таковые они обособлены, заперты внутри самих себя своим статусом фактов. Например, когда Кейт вспоминает, что Рембрандт разорился, а Спинозу отлучили от церкви, и, принимая во внимание биографические данные, предполагает, что их пути вполне могли пересечься где-нибудь в Амстердаме в 1650-е годы, весь разговор, который ей удается вообразить, сводится к следующему:
«Мне было очень жаль слышать о вашем банкротстве, Рембрандт».
«Мне было очень жаль слышать о вашем отлучении, Спиноза».
Основной пафос здесь в том, что, опираясь на каноничную атомистическую метафизику и преобразуя ее в искусство, Марксон достиг чего-то вроде каноничной антимелодрамы. Он сделал факты грустными. Само существование Кейт — атомарный факт, ее одиночество — метафизическая крайность. Ее мир «пуст», в нем ничего, кроме данных, покрывающих его, словно дырами, сетчатым узором; он одновременно сформирован и ограничен теми эпистемологическими нитями, которые лишь она одна может сплести. Что Кейт и делает — постоянно, будучи не в силах остановиться, сознательно подражая древнегреческой Пенелопе, которая не выходит у нее из головы. Но Кейт, в отличие от законной любовницы Одиссея, не способна ни связать подобающий узор, ни распутать то, что выдумало ее сознание. С этой точки зрения она предстает уже не Пенелопой, а одновременно Клитемнестрой и Агамемноном; Клитемнестрой, которую Кейт описывает убивающей Агамемнона, «безутешной»; Агамемноном — «у своей купальни, опутанным покрывалом и заколотым сквозь него». А поскольку никакие из присутствующих вещей не связаны ни друг с другом, ни с Кейт, мемориальный проект Кейт в «ЛВ» осмыслен и неизбежен даже несмотря на то, что он закрепляет тот смутный солипсизм, который стал ее бременем. При помощи своего мемориального проекта Кейт превращает «внешнюю» историю в свою собственную. То есть переписывает ее как личную. Поедает ее, как сумасшедший Ван Гог «пытался съесть свои краски». Не случайно роман Марксона открывается наречием зарождения: «Вначале...» То, что «непочтительные размышления» рассказчицы простираются от классических поэм до голландской живописи, барочных квартетов, французского реализма XIX века и бейсбола на искусственной траве, — это не украшательство и не претенциозность автора. Это не случайность (но аллюзия), что Кейт увлеченно бросает обрывки трагической истории в огонь, — она последний историк, она ее трагик и разрушитель, кремирующий страницу за страницей Геродота (первого историка!) по мере чтения. Также нет никакой жеманности или небрежности в том, что ей кажется, будто ее «назначили куратором всего мира», и что она живет в музеях и развешивает свои картины рядом с шедеврами. Работа куратора — вспоминать, выбирать, размещать, то есть устанавливать порядок и одним лишь этим передавать значение, — может служить замечательной метафорой жизни солипсиста или стратегий выживания, подходящих для существования монады в мире преломленных фактов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
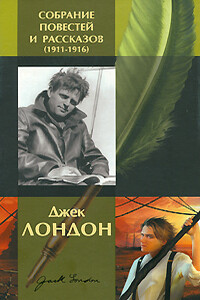
Русские погранцы арестовали за браконьерство в дальневосточных водах американскую шхуну с тюленьими шкурами в трюме. Команда дрожит в страхе перед Сибирью и не находит пути к спасенью…
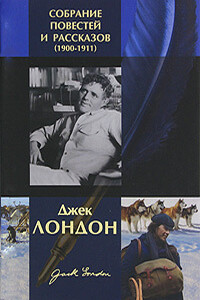
Неопытная провинциалочка жаждет работать в газете крупного города. Как же ей доказать свое право на звание журналистки?
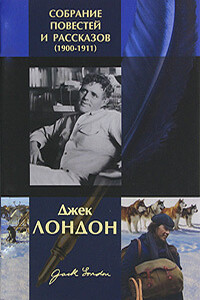
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
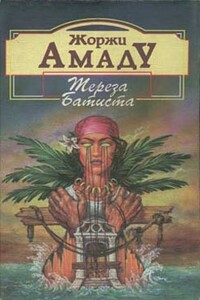
Латиноамериканская проза – ярчайший камень в ожерелье художественной литературы XX века. Имена Маркеса, Кортасара, Борхеса и других авторов возвышаются над материком прозы. Рядом с ними высится могучий пик – Жоржи Амаду. Имя этого бразильского писателя – своего рода символ литературы Латинской Америки. Магическая, завораживающая проза Амаду давно и хорошо знакома в нашей стране. Но роман «Тереза Батиста, Сладкий Мёд и Отвага» впервые печатается в полном объеме.
