Любовница Витгенштейна - [79]
Название романа не воспринимается как претенциозное или чрезмерно тяжелое, потому что Кейт действительно является любовницей Витгенштейна, призрачным куратором мира истории, артефактов и воспоминаний (которые, словно телевизионные образы, можно увидеть, но не сделать своими), а также фактов — фактов о (бывшем) мире и ее собственных ментальных привычках. Она выражается сухим языком фактов, и кажется, будто не мастерством, но каким-то неизбежным чудом вынужденного письма Марксон направляет нашу ошибочную оценку, наделяя утверждения, имеющие форму грубой передачи информации[16], подлинной и глубинной эмоциональной сутью.
Скудный апокрифический стиль письма Кейт, ее прямое и точное цитирование фразы «Мир есть все то, что имеет место»[17] и ее навязчивое желание обуздать факты, ставшие внешним и внутренним содержанием ее жизни, — все это заставляет читателя не просто пойти за «Логико-философским трактатом»[18] Людвига Витгенштейна 1921 года, а побежать за ним. Причина, по которой я, человек, не являющийся критиком и склонный относиться к книгам, которые меня восхищают, с нерешительностью слепца перед стенами, уверенно рассуждаю о судьбе Кейт, состоит в том, что «ЛВ» явно отсылает к «Трактату» за критическим «разъяснением». Это не слабость романа. Хотя то, что это не слабость, — тоже своего рода чудо. И это не значит, что «ЛВ» просто написана «на полях» « Трактата» — в том смысле, в каком «Кандид» делает на своих полях отсылки к «Монадологии» или в каком «Тошнота» драматизирует третью часть «Бытия и ничто». Нет, если уж сводить «ЛВ» в какую-то одну категорию, то для меня она — своего рода философская научная фантастика. То есть вымышленная картина того, каково было бы фактически жить в логике и метафизике, постулируемой в «Трактате» Витгенштейна. Такого рода мир начинался для Витгенштейна как логический рай. Заканчивается же он (я полагаю) метафизическим адом; а то, как сильно его философская картина не сочеталась с жизнью и мировоззрением, представлявшимися Витгенштейну-человеку достойными, стало (я утверждаю) важным мотивом для отречения от «Трактата» в его капитальном труде 1953 года «Философские исследования»[19].
В сущности, «Трактат» — первая настоящая попытка исследования ныне модной взаимосвязи языка и «реальности», которую язык должен ухватывать, очерчивать и представлять — такова его номинальная функция. Основной вопрос «Трактата» очень кантианский: каким должен быть мир, чтобы язык вообще был возможен? Ранний Витгенштейн[20], сильно очарованный Расселом и его «Принципами математики», перевернувшими современную логику, смотрел на язык как на математику с ее логическим базисом, видя парадигматическую функцию языка в отображении или «изображении» мира. Из этого убеждения вытекает все содержание «Трактата», подобно тому как пристрастие Кейт к картинам, зеркалам и ментальным образам вроде воспоминаний, ассоциаций и представлений формирует тот холст, на котором вырисовываются ее мемуары. В «Трактате» Витгенштейн выбрал в качестве образцового языка истинностно-функциональную логику «Принципов» Рассела и Уайтхеда. Такой выбор имел практический смысл: если вы пытаетесь выстроить объяснение мира из человеческого языка, то лучше всего избрать его наиболее четкий и точный тип (подкрепляющий веру Витгенштейна в то, что задача языка — излагать факты) и самую прямую и непротиворечивую связь между языком и миром определяемых им объектов. Последняя, я повторяю и подчеркиваю, есть просто связь зеркала и отражения; а критерием оценки точности высказывания оказывается исключительно и полностью его верность той данности мира, которую оно обозначает: ср. «высказывание есть образ факта»

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
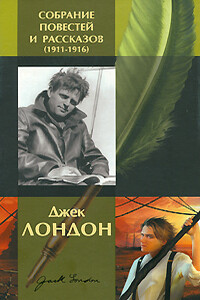
Русские погранцы арестовали за браконьерство в дальневосточных водах американскую шхуну с тюленьими шкурами в трюме. Команда дрожит в страхе перед Сибирью и не находит пути к спасенью…
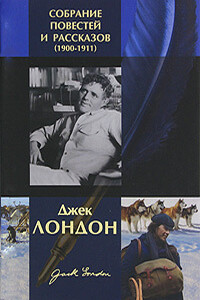
Неопытная провинциалочка жаждет работать в газете крупного города. Как же ей доказать свое право на звание журналистки?
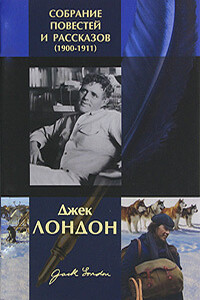
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
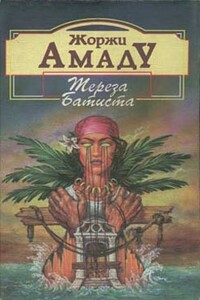
Латиноамериканская проза – ярчайший камень в ожерелье художественной литературы XX века. Имена Маркеса, Кортасара, Борхеса и других авторов возвышаются над материком прозы. Рядом с ними высится могучий пик – Жоржи Амаду. Имя этого бразильского писателя – своего рода символ литературы Латинской Америки. Магическая, завораживающая проза Амаду давно и хорошо знакома в нашей стране. Но роман «Тереза Батиста, Сладкий Мёд и Отвага» впервые печатается в полном объеме.
