Любовница Витгенштейна - [83]
О мере успеха, с которым Марксону удалось запечатлеть голос, психику и тяжелое положение женщины, хоть постпозитивистской, хоть нет, можно спорить. Иногда я тоже пытаюсь писать женским голосом и считаю себя очень восприимчивым к техническим/ политическим проблемам «кросс-писательства», но мне женская персона «ЛВ» показалась интригующей и реальной. Некоторые женщины, которым я подсунул «ЛВ», не вполне разделили мое мнение. Они возражали не столько против голоса и синтаксиса (и то и другое — сильные стороны «ЛВ», но продемонстрировать это можно было бы, только процитировав слово в слово страниц двадцать), сколько против некоторых смелых деталей, при помощи которых Марксон то и дело напоминает читателю, что Кейт — женщина. Например, постоянные упоминания о ее месячных показались им «корявыми». Тема менструации действительно всплывает часто и с нарративной точки зрения без очевидных причин; и если это не корявая аллюзия страсти или мученичества, тогда это не менее корявое (ибо грубое и лишнее) напоминание о гендере: да, женщины — это такие люди, чьи вагины регулярно кровоточат, но повторение и заострение внимания на этом наводит на мысли о плохой научной фантастике, где инопланетяне постоянно упоминают о головных антеннах, которые — будь и они, и голос рассказчика действительно инопланетными — представляли бы собой неоспоримый и заурядный жизненный факт, как уши, носы или волосы[32]. Лично я нейтрально отношусь к менструальной теме. Что мне не нравится, так это конкретная стратегия, которую задействует Марксон, пытаясь объяснить переполняющие Кейт «женские» чувства крайней вины и крайнего одиночества. Реалистичное или характерное объяснение не сводится (слава богу!) к тому, что Кейт потерпела эмоциональный крах из-за разных объективировавших и бросавших ее мужчин, от мужа (которого она называет то Саймон, то Терри, а иногда Адам) до последнего любовника, неизменно называемого Люсьен. Скорее это объясняется тем, что в далекие безмятежные дни, когда мир населяли люди, Кейт изменяла мужу с другими мужчинами, а затем ее маленький сын (то Саймон, то — ох! — снова Адам) умер в Мексике, возможно от менингита, после чего муж от нее ушел, примерно десять лет назад, в «незапамятные времена», в тот же психоисторический момент, когда мир Кейт опустел и начался ее поиск хоть кого-то живого, приведший ее на пустой пляж, где она теперь пребывает и разглагольствует для никого. Ее измены, и смерть сына, и уход мужа (аллюзии на которые, пусть робкие, встречаются снова и снова) являют собой «эвинский» диагноз ее греха и метафизического проклятия; они представляются — с настойчивостью, которую невозможно игнорировать, — как грехопадение Кейт[33], переносимое на весь гендер, как падение из сообщества, в котором она одновременно деятель и объект[34], в постромантический витгенштейновский мир крайней субъективности и патологической ответственности, в специфическую интеллектуальную/эмо- циональную/моральную изоляцию, ассоциируемую американским читателем 1988 года с мужчинами, где мужчины отчуждены действием от Внешнего, которое нам приходится объективировать, использовать, сжигать страницами, чтобы остаться субъектами, онтологически защищенными и щитом, и копьем. Все это кажется мне изобретательным и интригующим, полным смысла союзом древнегреческих и христианских традиций принижения женщин. Но смерть ее сына и расставание с мужем также представлены в «ЛВ» как очень конкретное эмоциональное «объяснение» психического «состояния» Кейт — это своеобразное принижение от самого Марксона, с которым я, пожалуй, не согласен. Хотя изображение личной истории в качестве такого объяснения, грозящее превратить «ЛВ» в очередной монолог сумасшедшей в духе Офелии / Джин Рис, иносказательно и даже искусно, оно все равно слишком бросается в [мои] глаза, чтобы не заметить его интенции:
Впрочем, я вовсе не уверена, что была безумна... перед этим. [Когда я отправилась на юг] Чтобы навестить могилу ребенка, которого я потеряла... по имени Адам.
Почему я написала, что его звали Адам?
Саймон — так звали моего мальчика.
Незапамятные времена. В том смысле, что человек может на мгновение забыть имя своего единственного ребенка, которому теперь было бы тридцать? (с. 17-18).
Вообще-то говоря, я думаю, что это было [в Мексике], где я [загрунтовала холст, а затем долго смотрела на него и наконец сожгла]. В доме, где я когда-то жила с Саймоном и Адамом.
Я, в сущности, убеждена, что моего мужа [Сай- мона/Терри] звали Адам (с. 35).
Сейчас уже нет никаких проблем в связи с фамилией мужа, кстати. Даже если я и не видела его после расставания из-за смерти Саймона (с. 69).
Однако раньше я, наверное, опустила эту часть, о том, что заводила любовников, когда еще была женой Адама (с. 274).
Говорят, шиитские женщины скрывают под строгой одеждой тело и лицо, чтобы оставаться невидимыми и, таким образом, не гневить бедных, едва сводящих концы с концами мужчин демонстрацией своей сексуальности. Я обнаруживаю в «ЛВ» аналогичную сложную и страшную смесь эллинской и эвинской мизогинии, где, по сути, Елена виновна как объект, а Ева — как субъект, искусительница. Хотя лично я нахожу эллинский компонент более интересным и актуальным в свете современной политики, колебание Марксона между этими двумя моделями кажется мне оправданным в данном нарративе и психологически ловким. А вот когда он, похоже, задерживается на варианте Евы, используя его и в качестве архетипа, и для нарративного объяснения (что показывают примеры выше), его «Любовница Витгенштейна» становится в наибольшей степени традиционной как художественная литература. Кроме того, именно здесь, с моей точки зрения, роман обнаруживает технический изъян, выдавая совершенно мужское авторское начало, стоящее за персонажем Кейт и/или женским полом в целом. Как и в большинстве других авангардных экспериментальных произведений, такой технический изъян к тому же серьезно разжижает тематику. Мне кажется чрезвычайно интересным, что Марксон создал некую Кейт, столь правдоподобно обитающую в аду крайнего субъективизма, но в итоге сам же не смог избежать ее объективации, то есть, «объясняя» ее метафизическое состояние как эмоци- ональное/психическое и сводя ее «послание в бутылке» к безумному монологу эрудированной женщины, сведенной с ума последствиями заслуживающих порицания сексуальных действий, Марксон, в сущности, относит Кейт к одной из весьма шаблонных категорий, в которых мы, мужчины, видимо, должны организовывать и осмыслять женскую тайну, феминистический пафос, «бессильный и женственный плод». Падение Кейт, сначала якобы в жуткую духовную манифестацию маскулинной, логически строгой метафизики двадцатого века, под пристальным взглядом превращается почти что в (неизбежное?) оскальзывание в отчуждение героини от своей роли (от своей сути) матери, жены, любовницы, возлюбленной. При таком прочтении пустому солипсизму Кейт не суждено перерасти в некую мрачную независимость от объективации: Кейт попросту сменила роль реальной жены реального мужчины на роль несуществующей любовницы безусловного гения объективации

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
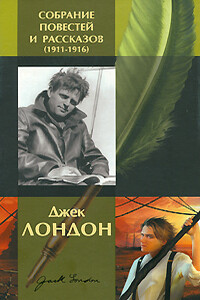
Русские погранцы арестовали за браконьерство в дальневосточных водах американскую шхуну с тюленьими шкурами в трюме. Команда дрожит в страхе перед Сибирью и не находит пути к спасенью…
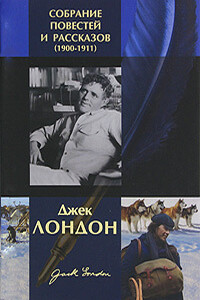
Неопытная провинциалочка жаждет работать в газете крупного города. Как же ей доказать свое право на звание журналистки?
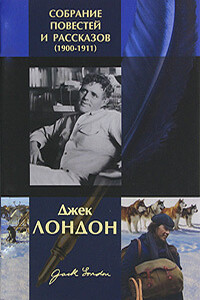
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
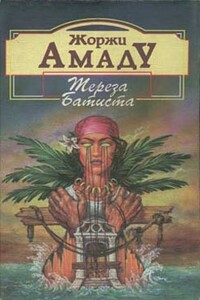
Латиноамериканская проза – ярчайший камень в ожерелье художественной литературы XX века. Имена Маркеса, Кортасара, Борхеса и других авторов возвышаются над материком прозы. Рядом с ними высится могучий пик – Жоржи Амаду. Имя этого бразильского писателя – своего рода символ литературы Латинской Америки. Магическая, завораживающая проза Амаду давно и хорошо знакома в нашей стране. Но роман «Тереза Батиста, Сладкий Мёд и Отвага» впервые печатается в полном объеме.
