Любовница Витгенштейна - [84]
Пожалуй, так многотрудно я стараюсь донести как раз то, что несовершенство, идущее от маскулинных предрассудков, лишь подчеркивает, насколько важна и амбициозна «ЛВ» в качестве экспериментального литературного произведения конца 1980-х годов. Мне, человеку с писательскими претензиями, нравится то, как этот роман переворачивает общепринятую формулу успешной художественной литературы, достигая наименьшего успеха как раз там, где он больше всего на нее равняется: исполинская мощь романа ослабляется здесь ровно в той мере, в какой Кейт изображается уникальной в плане обстоятельств и истории. Когда же Кейт наименее конкретизирована, наименее «мотивирована» некоей искусно представленной, но стандартно удобоваримой травмой (эвинской/валентиновой/постфрейдистской), ее героиня и ее судьба особенно э/а/ффектны. Ведь (пусть это покажется очевидным) покуда Кейт не уникальна по своей мотивации, она может быть кем угодно из нас, и преломление мира Кейт способно спроецировать или изобразить десакрализованный и парадоксальный солипсизм американцев в стадной культуре, поклоняющейся лишь Очевидному Я, виновато-пассивных солипсистов и скептиков, пытающихся согреть нежные руки у электронного костра данных в информационный век, когда стандартные образы и принудительный эрос подменяют активное сопереживание или сакральную тайну в качестве целей, ценности, значения и пр. Это знакомое нытье, которое роман Марксона обещает и — почти — преображает, драматизирует, мифологизирует через сухой, голый факт.
Пожалуй, в конце концов, я не одобряю стремление придать одиночеству Кейт конкретную «мотивацию» через приобретенную женскую травму потому, что это попросту излишне, ведь Марксон в этой книге уже добился успеха на всех действительно важных уровнях художественного убеждения. Он воплотил абстрактные наброски доктрины Витгенштейна в конкретном театре человеческого одиночества. При этом его роман гораздо лучше, чем псевдобиография, ухватил то, что сделало Витгенштейна трагической фигурой и жертвой той самой преломленной современности, открытию которой он содействовал. Эрудит Марксон написал поразительно умный роман с прозрачным текстом, завораживающим голосом и финалом, от которого на глазах наворачиваются слезы. Вдобавок он создал (будто бы невольно) мощное критическое размышление о связи одиночества с самим языком.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
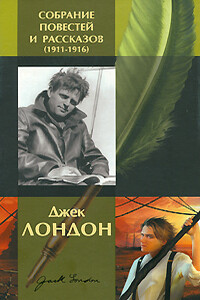
Русские погранцы арестовали за браконьерство в дальневосточных водах американскую шхуну с тюленьими шкурами в трюме. Команда дрожит в страхе перед Сибирью и не находит пути к спасенью…
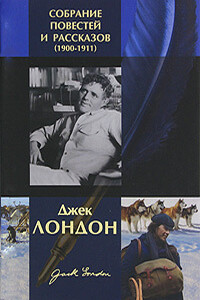
Неопытная провинциалочка жаждет работать в газете крупного города. Как же ей доказать свое право на звание журналистки?
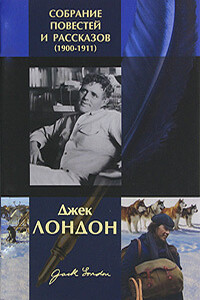
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
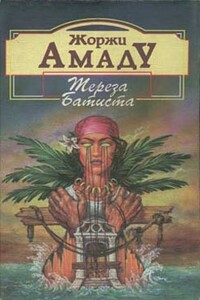
Латиноамериканская проза – ярчайший камень в ожерелье художественной литературы XX века. Имена Маркеса, Кортасара, Борхеса и других авторов возвышаются над материком прозы. Рядом с ними высится могучий пик – Жоржи Амаду. Имя этого бразильского писателя – своего рода символ литературы Латинской Америки. Магическая, завораживающая проза Амаду давно и хорошо знакома в нашей стране. Но роман «Тереза Батиста, Сладкий Мёд и Отвага» впервые печатается в полном объеме.
